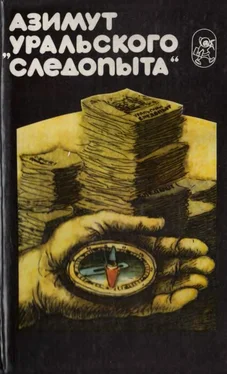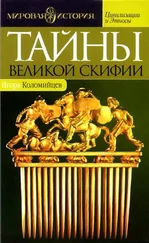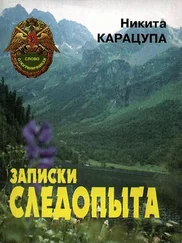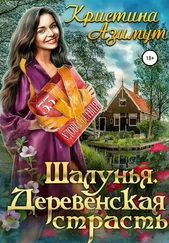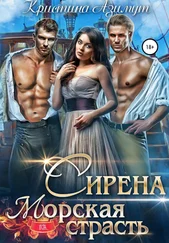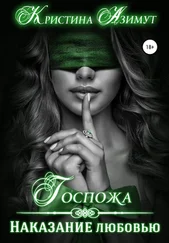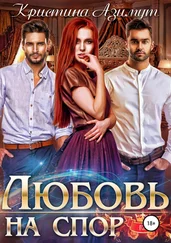Это лишь небольшая часть подземелий. Остальную, значительно большую, удалось «увидеть» геофизическим приборам. По геофизическим данным, полученным учеными, работавшими под руководством кандидата технических наук В. М. Слукина, вокруг Невьянской башни находится целый лабиринт подземелий…
Теперь слово за археологами. Что они скажут?
Ну, а пока правы скептики, которые не верят ни в тайную плавку серебра, ни в чеканку демидовских рублей, ни в затопление подземелий вместе с мастеровыми…
К последней легенде (о затоплении) очень критически в свое время относился П. П. Бажов. В письме к поэту А. Суркову он писал:
«Вообще этой ходовой легенде я не верю именно потому, что не могу представить себе это дело практически. Вариант затопляемого подземного тупика невозможен, не выдержит никакое сооружение. Вариант «было да водой смыло», то есть проходной воды с крутым падением ниже подземелья и незаметным выходом в Нейву, тоже невероятен: требует работ и креплений чуть не линии московского метро. Да и первые Демидовы… были людьми деловыми, которые нашли бы выход попроще и без риску оставить улики. На Урале того времени ничего не стоило найти десятки хорошо укрытых мест и отпереться от фальшивомонетчиков было нетрудно: мало ли что они выдумают. Только и всего, и никакого подземелья не требуется. Но должен сказать, что легенда эта крепко укоренилась. Ее бездумно повторяют в Невьянске, ссылаясь на стариков, которые будто бы видели остатки подземных ходов, хотя направление указывают по-разному. Некогда вот только нам заняться подобными вещами, а стоило бы проверить раскопкой».
Современные археологи, которых пытались привлечь к раскопкам невьянских подземелий, чтобы подтвердить или опровергнуть историческую реальность тех или иных легенд, относятся к этому предложению крайне скептически и считают, что не стоит тратить время на дело, заранее обреченное на неудачу.
Было бы нелепо видеть в каждой легенде и в каждом предании зашифрованные исторические факты и события. Но и излишний скепсис тоже бесплоден. Ведь посрамил же недоверчивых серьезных ученых, отвергавших фактическую основу гомеровского эпоса, и в частности существование Трои, дилетант Шлиман. Наивно поверя в правдивость «Илиады», он нашел и раскопал историческую Трою.
Но не будем увлекаться — параллели всегда опасны. И все-таки в результате архивных розысков, проведенных автором этого повествования, удалось восстановить некоторые события, скрывающиеся за легендой о тайной плавке серебра на Невьянском заводе. Следует обязательно оговориться, что первым по этому пути пошел С. А. Лясик. В последующих главах автор частично использует и его исследования.
В один из морозных январских дней 1744 года до Невьянского завода — горной столицы ведомства Акинфия Демидова — добрался с Алтая посыльный, преодолев более двух тысяч верст сибирского бездорожья со скоростью, с какой не ездил ни один самый срочный правительственный курьер. У Демидова с горным Алтаем была своя великолепно налаженная связь. Посыльный передал грозному властелину письмо приказчика Колывано-Воскресенских заводов, в котором тот кроме разных заводских дел уведомлял, что после окончания контракта выехал в Петербург саксонский штейгер Филипп Трегер. Но уехал не просто так, а с обидой на хозяина завода. Перед самым отъездом, сообщал приказчик, хмельной штейгер говаривал знакомым, что известит в столице о кое-каких колыванских делах и что извет уже приготовил…
С этим письмом Акинфий Никитич просидел целый день один, никого к себе не допуская. Умный и опытный хищник сразу же почувствовал опасность. Он понял, что если этот проклятый саксонец, по его хозяйскому приказу выпоротый плетьми за промашку в деле, объявится в столице, то ему, Акинфию Демидову, несдобровать: есть грехи, за которые не пощадят даже самого могущественного горнопромышленника России.
И, несмотря на январскую стужу, на свои шестьдесят шесть лет, на недомогание, он приказал немедленно готовить свой возок с дворянским гербом, отобрать лучших лошадей да загрузить две подводы подарками.
И не успел посыльный еще проспаться после долгой изнурительной езды, как Акинфий Никитич вместе с самыми верными приказчиками и телохранителями уже отправился в длинный и трудный путь. В дороге он гневался из-за любой, даже самой малой задержки, не жалел ни лошадей, которых меняли на его же, демидовских, постоялых дворах, раскиданных на всем пути от Невьянска до Петербурга, ни своих людей, которым не было ни часа покоя, ни самого себя; отказался ночевать под крышей, спал на ходу, прямо в возке.
Читать дальше