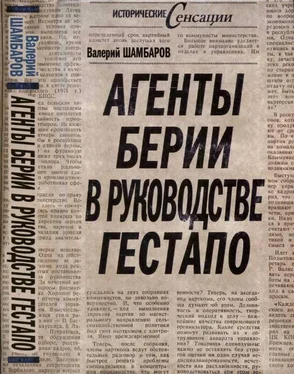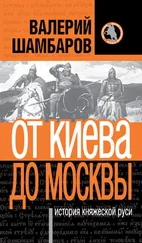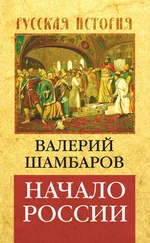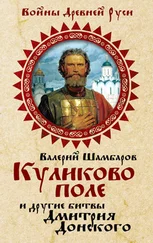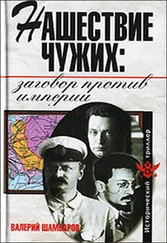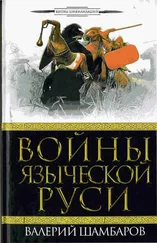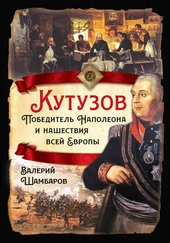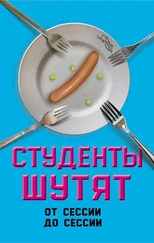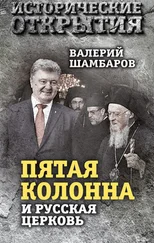Кейтель с марта признал необходимость сохранять пленных в качестве рабочей силы. Отменил прежний приказ, разрешавший расстреливать их. Но 20 июня 1942 г. отдал другой приказ. Клеймить пленных — клеймо в виде острого угла около сантиметра длиной должно было наноситься на левую ягодицу. Зимой 1941/42 г. немцы принялись подгребать в лагеря военнопленных и «примаков», дезертиров, осевших по украинским и белорусским деревням и считавших для себя войну законченной. И вот тогда-то, едва потеплело, народ стал отыскивать спрятанные ружья и уходить в леса. Тогда-то оно и началось, широкое партизанское движение. Посудите сами — ведь основу партизанских отрядов составляли отнюдь не старики, дети и бабы, а здоровые мужчины зрелого возраста. То есть те, кто в период отступления и поражений уклонился от призыва. И бывшие окруженцы. Теперь же они поняли, что под оккупантами — это не жизнь.
Но, несмотря на все это, весна и лето 1942 г. ознаменовались новыми победами Германии. В чем причина? Сыграли роль несколько факторов. Советский Союз все еще не сумел восстановить потенциал техники и вооружения, потерянной в прошлом году. И потенциал военных кадров. Генерал-лейтенант С. И. Мельников вспоминает о совещании, проходившем у Сталина 21 сентября 1942 г. с участием командующего бронетанковых войск Федоренко и командующих танковыми армиями. Был поднят вопрос о живучести танков. И оказалось, что средняя живучесть советского танка— 1–3 атаки. А германского— 5–15 атак. Была выявлена и главная причина — слабая подготовка экипажей. На обучение управлению танком выделялось всего 5–10 «моточасов». После чего экипаж шел в бой.
Аналогичное положение было в авиации. Советский ас А. И. Покрышкин описывал случай, как их потрепанную часть отводили в тыл на переформирование, и на аэродром прибыл свежий полк из зеленых новичков. Командир попросил Покрышкина пару раз сводить их на задание. И от второго вылета он отказался: молодежь проявила полнейшее неумение действовать, в воздухе получился хаос и бестолковщина. В некоторые частях это пытались исправить, организовывали дополнительное обучение поступающего пополнения. Но такое не всегда позволяла обстановка…
Причинами поражений стали и серьезнейшие ошибки советского командования. Сталин фактически повторил просчеты Гитлера, переоценив степень разгрома немцев под Москвой и недооценив их мобилизационные ресурсы. Счел, что войну можно закончить уже в 1942 г., надо лишь «дожать» противника, и он окончательно сломается. В результате резервы, накопленные к зимнему наступлению, были без толку растрепаны в весенних «частных» операциях, атакуя успевшую сорганизоваться и укрепиться германскую позиционную оборону.
Однако сил у Гитлера было еще много. Шло формирование и обучение свежих соединений, переброски с запада. Фюрер все шире привлекал сателлитов. Кстати, в советской и западной литературе по политическим соображениям было принято изображать их чуть ли не подневольными союзниками немцев, которые и сражались кое-как. Это глубоко неверно. В Венгрии союз с Германией и вступление в войну было воспринято с общенародным ликованием. Как вспоминал писатель Й. Дарваш, «чуть ли не всех охватила лихорадка расширения границ, у торжествующей страны в хмельном угаре кружились головы — и если бы кто-нибудь осмелился в тот момент испортить праздник, поставив вопрос о том, чем же придется за все это платить, он наверняка был бы смят и растерзан». Даже левые оппозиционеры критиковали правительство не за альянс с немцами, а за то, что оно продешевило — мол, нужно было требовать Хорватию, Словакию, Закарпатье, Галицию.
И сражались мадьяры на фронте ничуть не хуже немцев, «не за страх, а за совесть» — только техники и вооружения у них было поменьше. Прекрасными бойцами были и финны. Объяснять их участие в войне только желанием восстановить «историческую справедливость» и вернуть территории, утраченные в 1940 г., совершенно неправомочно. Финляндия раскатала губы на весь российский северо-запад, и ее армия планировала после прорыва в Карелии и под Ленинградом наступать на Вологду. Далековато от Карельского перешейка, не правда ли? Румыны, итальянцы, словаки были, без сомнения, куда менее стойкими бойцами, чем немцы, венгры и финны. Но ведь и они стреляли не в воздух. Их артиллерия засыпала советские позиции не бумажными, а настоящими снарядами. Их пули, попадая в цель, убивали, ранили и калечили наших воинов точно так же, как немецкие. И только получив сокрушающие удары советских войск, эти германские союзники бежали, паниковали, поднимали руки вверх. Впрочем, и в Красной Армии далеко не все дивизии были гвардейскими и героическими. Попадали на фронт и соединения, кое-как сколоченные, собранные с миру по нитке, рассыпавшиеся при первых ударах. Но их почему-то никто со счетов не сбрасывает, в отличие от румын и итальянцев. А другие союзники Германии, Болгария и Хорватия с Россией не воевали, но действовали против югославских партизан, помогая немцам высвобождать оттуда свои войска.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу