В войну худо было с одеждой. Доживали так, что вымоешься в бане и сушишь над каменицей тут же выстиранную одежду, не было ничего на смену.
Был такой случай: обменяла в лагере масло на кальсоны мужские, отошла с полкилометра, и тут же из леса выскочил солдат и отобрал. Ни масла, ни кальсон, а хотела сшить нижнее белье.
Со страхом ждали, кто уедет в село. Почту не разносили, а письма посылали нам с попутчиками. Писем с фронта и ждали, и боялись тоже. А вдруг там такое… А как было страшно остаться в двадцать пять лет одной с двумя малыми детьми. Когда мужа забрали на фронт — это в декабре 1941 года, ребенку последнему и трех месяцев не было. Корма для скота мало (был неурожайный год на сено), хлеба в обрез, да ведь надо и работать. Как вечер, так около леса, а лес в километре от дома, бегут дезертиры. Бывало, ночью попадали в ограду, в сени — и вот ложишься спать и около себя ложишь топор или вилы, а дверь еще и на ухват завяжешь.
Муж воевал под Москвой, ранили, лежал в госпитале, и снова фронт.
И вот две похоронки одна за другой.
Слез уже не было, все окаменело внутри, единственно, боялась потерять рассудок, знала, что малы дети. Шла к колодцу с коромыслом, но без ведер за водой, вот до чего доходило. Работала-работала, старалась больше быть на людях. И вот в двадцать семь лет вдова. Всю жизнь ждала, авось ошиблись, ведь было, кто приходил домой после похоронок, а мне две пришли…
Может, ошиблись?
Муки памяти (вместо заключения)
Народные воспоминания о прошлом… Это мера человека ушедшей эпохи и мерило, которым он мерит нас.
Присмотримся к судьбам этих людей: каждая неповторима по-своему, хотя и не всякий может доходчиво рассказать о себе. Но порой в самом обыкновенном рассказе, где вся ткань повествования уже хорошо знакома по другим воспоминаниям, внезапно блеснут неожиданностью и возьмут за душу две-три фразы. Может, в них-то ярче всего и проявилось то, что отличает человека от его соседей, друзей, родных. Как при фотографировании, внезапно открывшиеся створы души запечатлевают навсегда что-то, казалось бы, маловажное… И затем вся жизнь человека связана с этим эпизодом, прикована к нему, и он постоянно, часто неосознанно, обращается памятью к одному и тому же. Муки памяти — вот как это называется.
Двадцатый век для России был воистину великим и страшным, он высветил такие глубины души народной, о каких мы и не подозревали. Лихое то время потребовало невероятного напряжения духовных сил нации. Слишком многое вообще не восстановимо. Поэтому поспешим оглянуться вокруг.
Миропонимание, миросозерцание человека, пожившего и повидавшего, его суждения о себе и о других для нас не менее ценны, чем конкретные факты и эпизоды реальности, — каждый хранит в душе нити, связующие мир настоящий и мир, ушедший в небытие.
Так оглянемся же на прошедший XX век и запомним слова старой русской крестьянки: «Очувствоваться не могу еще, что они прошли… эти годы…»
Приложение Черты из моей жизни
Я родился 9 августа 1956 года в Советске, в той его части, что именуется заречной. С древности и где-то до 1950-х годов это было село Жерновогорье — Жерновы Горы, очень древнее — известное с XVI века село. Сразу вспоминается вятская приговорка-присказка «Черт родил татарина, татарин родил кукарина, кукарин родил нагорина» — некое возрастание хитрости и вредности. Дело в том, что это старинное русское село, как и близлежащая слобода Кукарка (сейчас город Советск), находится вблизи центра активного смешения этносов: недалеко древняя Волжская Булгария, где-то здесь легендарная чудь, татары, марийцы, удмурты, в конце концов, русские — все наложили свой отпечаток на местные земли и облик людей, здесь сейчас проживающих. Внешний облик многих кукарян и жерновогорцев не вполне традиционно славянский, хотя это коренные русские люди: широкие скулы, узкие глаза, темные кудрявые волосы можно наблюдать у многих коренных местных обитателей.
Отец мой, Аркадий Александрович, родом из близлежащей деревни Решетниково, мать — Лидия Андреевна, коренная жерновогорка. Я практически не помню своих дедов: ни решетниковского — Александра Михайловича, хорошего плотника и пимоката, крестьянствовавшего всю жизнь в деревне, ни жерновогорского — Андрея Федоровича Богомолова, пришедшего с Первой мировой с простреленным коленом (нога в котором не гнулась) и зарабатывавшего себе на жизнь работой в местном кустарном промысле: он делал надгробия и простые памятники из опоки — хорошего поделочного камня, добывавшегося в местной сельской шахте. Считается, что я похож на решетниковскую родню, а не на жерновогорскую.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
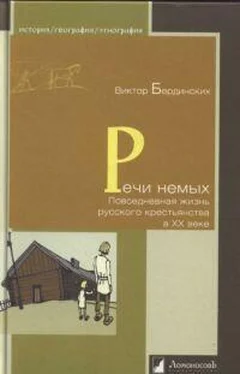









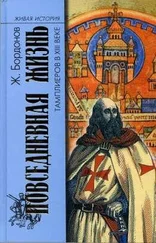
![Олег Хасянов - Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой]](/books/432697/oleg-hasyanov-povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-krestya-thumb.webp)
