Следует упомянуть еще об одном, весьма распространенном, типе подпольных групп, мотивом к созданию которых служила главным образом юношеская потребность в приключениях, игре, причем игре заведомо опасной. Для них характерны названия, заимствованные из приключенческой литературы или кинофильмов («Овод», «Молодая Россия», «Капуцин» и т.д.), при их создании обычно важную роль имела атрибутика – клятвы, условные знаки, обстановка таинственности. Эти, в сущности, безобидные затеи тем не менее привлекали внимание правоохранительных органов, видевших опасность в любых неподконтрольных объединениях молодежи и озабоченных отдельными попытками членов подобных групп раздобыть оружие.
Среди оппозиционных организаций, сведения о которых содержатся в надзорных производствах Прокуратуры СССР, значительное место занимает студенческое подполье. Важными импульсами для их появления были события в Венгрии и Польше. Осенью 1956 г. в институтах Москвы, Ленинграда, Свердловска и других крупных городов России появились листовки, призывающие к солидарности с венграми. Молодежная оппозиция редко выражала принципиальное несогласие с марксизмом-ленинизмом. Однако отдельные организации смогли выйти за рамки марксистской парадигмы. Можно назвать созданный в Москве в 1961 г. «Союз свободы разума» [381], уже упомянутую группу Ю. Машкова [382].
Отличительной чертой хрущевского периода было появление подпольных организаций в рабочей среде. Рабочие в СССР всегда находились в привилегированном положении по отношению к другим группам населения, за исключением, разумеется, партийной номенклатуры, но при этом были наиболее зависимы от государства. Противоречивость такого положения остро обнаружила себя в середине 50-х гг. Снижение расценок на труд, повышение цен, введение новых налогов на фоне деклараций о борьбе за повышение уровня жизни вызвали раздражение рабочих. Но так ли уж снизился уровень жизни рабочего класса, привыкшего к жестокой эксплуатации своего труда государством, чтобы вызвать столь резкую реакцию? Дело было не в падении абсолютных показателей уровня жизни (они, напротив, продолжали расти), а в углублявшемся противоречии между социальными ожиданиями рабочих и реальными достижениями режима.
Для советских рабочих не существовало таких классических методов защиты своих прав, как забастовки. Формального запрета на их проведение не было, в Уголовном кодексе отсутствовала статья об ответственности за забастовки. В политической системе, действовавшей под знаком «диктатуры пролетариата», конфликтные отношения власти и рабочих как бы вообще «не предусматривались».
Показательно, что вторая половина 1950-х – начало 1960-х гг. отмечены беспрецедентной волной массовых беспорядков, активными участниками которых были рабочие, правда выступавшие в составе городской толпы. Нам неизвестны случаи участия членов подпольных рабочих организаций в этих событиях, однако следует признать, что объединение недовольных рабочих в нелегальные группы и массовые волнения с участием рабочих – явления, непосредственно связанные, и свидетельствуют они лишь о разных этапах развития конфликтных отношений.
Названия нелегальных организаций рабочих второй половины 50-х – начала 60-х гг. – «Союз борьбы за справедливость», «Организация массовой борьбы за справедливость», «Партия борьбы за реальность ленинских идей», «Социалистическая партия Советского Союза», «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», «Рабоче-крестьянская подпольная партия», «Российская трудовая партия», «Союз честных тружеников», «Народная партия» – свидетельствуют, что их участники действовали под лозунгами борьбы за «правильный социализм». С уверенностью можно сказать, что подавляющее большинство организаций рабочих не ставило своей целью (даже дальней) свержение советской власти. В документах рабочих групп в качестве основных врагов назывались «бюрократы» и «советская буржуазия». «Коммунисты-капиталисты» – так определил представителей этой враждебной силы лидер «Рабоче-крестьянской подпольной партии» Николай Косторнов [383].
Распространенность антибуржуазных настроений в рабочей среде рассматриваемого периода свидетельствовала о наличии серьезного социокультурного конфликта. Партийно-государственная элита с приходом к власти Хрущева полностью утратила привычно аскетические черты правителей пролетарского государства. События июльского (1957 г.) Пленума ЦК КПСС, осудившего членов так называемой «антипартийной группы», оказали дополнительное влияние на усиление антихрущевских настроений в рабочей среде.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
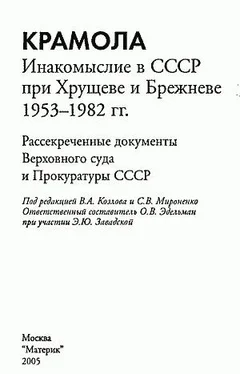

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/34454/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-thumb.webp)
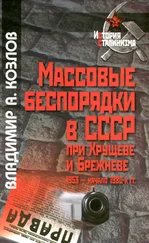



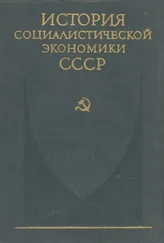

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/420167/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda-thumb.webp)
![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/420168/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Повседневность террора - Деятельность националистических формирований в западных регионах СССР. [Западная Украина, февраль-июнь 1945 года]](/books/420664/kollektiv-avtorov-povsednevnost-terrora-deyatelnost-nacionalisticheskih-formirovanij-v-zapadnyh-regionah-sssr-zapadnaya-ukraina-fevral-iyun-1945-goda-thumb.webp)
