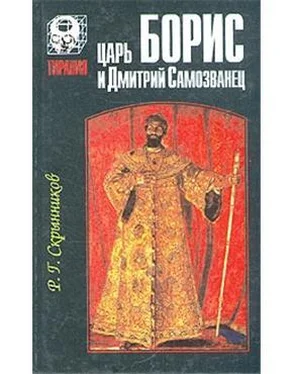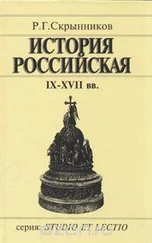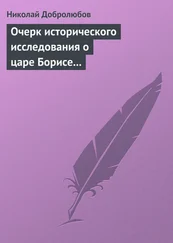Православная церковь третировала католиков как худших врагов истинной веры. Поэтому православные люди, оказавшиеся в лагере Лжедмитрия, с тревогой наблюдали за появлением в его окружении иезуитов и прочих латынян. Неблагоприятные толки дошли до Юрия Мнишка, и он решил прибегнуть к строгостям, чтобы поставить московитов на место. Воспользовавшись доносом одного из русских, Мнишек велел схватить сына боярского Якова Пыхачева и без суда казнить его. Мнишек сам сообщил об этой казни папскому нунцию Рангони в письме от 8(18) сентября 1604 г. Согласно версии Мнишка, Пыхачев был будто бы подослан в Самбор Борисом Годуновым для убийства «царевича». Однако верить его утверждению трудно. Сандомирский воевода не упускал случая очернить тиранию Бориса, чтобы оправдать войну с ним. По словам Варлаама, Пыхачев пострадал из-за того, что называл «царевича» Гришкой Отрепьевым, иначе говоря, усомнился в его царственном происхождении 60.
Пособник самозванца Варлаам Яцкий поспешил в Самбор, привлеченный слухами о его успехе. Он рассчитывал пожать плоды затеянной интриги, но жестоко просчитался. Варлаам знал слишком много об Отрепьеве и его истинном происхождении, и тот решил отделаться от своего наставника. Уезжая из Самбора, самозванец приказал бросить Варлаама в тюрьму 61.
Не позднее июля 1604 г. из Самбора на Дон выехал литвин Счастный Свирский с запорожцами. Он отвез казакам «царское» знамя — красное полотнище с черным двуглавым орлом посредине 62. Донцы снарядили в Польшу новых послов. Они явились в лагерь самозванца 25 августа 1604 г. В грамоте казаки вновь подтвердили свою готовность выступить на помощь своему «прирожденному государю» 63.
Московские власти своевременно узнали о появлении гонцов от самозванца на Дону и попытались предотвратить восстание казаков. С этой целью они направили к ним дворянина Петра Хрущева. Последний был хорошо известен казакам. Прошло лишь 12 лет с тех нор, как правитель Борис Годунов предлагал донцам принять Хрущева в столице их войска Раздорах в качестве головы. В то время вольные казаки категорически отвергли домогательства Москвы. В 1604 г. миссия Хрущева также завершилась провалом. Казаки связали царского посланца и увезли в Польшу, где выдали Отрепьеву. Как выяснилось на допросах, Хрущев должен был склонить донцов к участию в войне с «царевичем» 64.
Канцелярия Мнишка подвергла допросные речи Хрущева тенденциозной обработке, превратив их в памфлет. В Польше памфлет был немедленно использован для воздействия на общественное мнение. Авторы памфлета приписали Хрущеву басню о том, что вдова Федора царица Ирина признала «царевича» природным государем, за что, по слухам, была убита своим братом Борисом Годуновым. В Москве тот же тиран приказал умертвить «двух главных господ» — Смирнова Васильева и Меньшого Булгакова — только за то, что те пили у себя дома за здоровье царевича Дмитрия 65.
«Главные господа» действительно были царскими дьяками: Васильев служил в приказе Большого дворца, а Булгаков — в Казенном приказе, но оба благополучно пережили и Годунова, и самозванца. Примечательно, что Булгаков пользовался полным доверием царя Бориса до самой его смерти. 19 марта 1605 г. «подказначей» (так именовали дьяка англичане) Меньшой Булгаков привез английским послам царские подарки. Приведенный факт обнаруживает лживость допросных речей Хрущева, составленных людьми Мнишка. Ни малейшего доверия не внушает воспроизведенная в памфлете запись разговора между Хрущевым и знатным воеводой Петром Шереметевым. «Трудно против прирожденного государя воевать», — якобы заявил Шереметев 66.
Небылицы насчет жестоких казней в Москве понадобились Мнишку для того, чтобы изобразить Бориса тираном и оправдать вторжение в Россию, предпринятое будто бы в защиту справедливости, в интересах законного государя московского.
Противники войны с Россией (Ян Замойский и др.) не только протестовали против действий Мнишка, но и принимали практические меры, чтобы не допустить нарушения мирного договора с Москвой. Еще в мае 1604 г. Януш Острожский известил короля, что он употребит насилие, чтобы задержать продвижение отрядов самозванца к русской границе. У краковского кастеляна были собственные войска, и его поддерживали другие магнаты с Украины. Не позднее июня Острожский обратился к «царевичу» с предупреждением, что он не допустит его к Днепру. Острожский подкрепил свою угрозу тем, что собрал южнее Киева значительные воинские силы. Он действовал, как видно, в полном согласии с Замойским. Один из участников московского похода, служивший в «царской роте», записал в своем дневнике: «Идя к Киеву, мы боялись войска краковского кастеляна князя Острожского, которого (войска) было несколько тысяч и которое стерегло нас до самого Днепра, поэтому мы были очень осторожны, не спали по целым ночам и имели наготове лошадей» 67.
Читать дальше