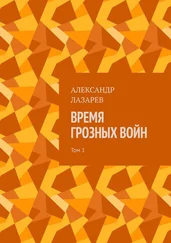Первый комплекс таких документов относится к Деревской пятине Новгорода, а точнее, как подметил Р. Г. Скрынников, к ее Едровскому стану. В наиболее раннем из них (отдельной грамоте помещику Б. Сомову от 12 июля 1585 г.) упоминаются пустые дворы деревни «на Мотни», крестьяне которой «разошлись в заповидныя лита: в 90-м году, и в 91-м году, и в 92-м году, и в 93-м году». Во время двух обысков, касавшихся крестьян кн. Б. И. Кропоткина (30 марта и 16 апреля 1588 г.), обыскные люди заявили, что те крестьяне вышли «в заповедные годы», которыми называются 1583/84—1586/87 гг. («в 92-м году, да в 93-м году, да в 94-м году, да и в 95-м году»). Два обыска (11 и 13 апреля 1588 г.) связаны с беглыми крестьянами помещика И. Непейцына, который в своей жалобе писал, что Васька и Трешка Гавриловы «в заповеднии годи, 90-м году, збежали». В Деревской пятине писцовые книги составлялись Д. А. Замыцким в 1581/82 г., К. Карцевым в 1582/83 г. и снова Д. А. Замыцким в 1586/87 г. [259] Самоквасов, т. II, с. 500, 451, 449–450; Корецкий. Закрепощение, с. 97, 304, 305, 311; Анпилогов, с. 415–416. Начаты ли книги Замыцкого осенью — зимой 1581 или весной 1582 г. (Скрынников. Россия, с. 175) — это сути дела не меняет.
Связь между введением заповедных лет и составлением писцовых книг напрашивается сама собой. Ведь для того чтобы привести в известность наличный состав налогоплательщиков (крестьянских дворов), необходимо было — хотя бы на время переписи — прекратить текучесть населения, т. е. крестьянские выходы. Р. Г. Скрынникову представляется существенным, что о заповедных летах нет упоминаний в деревских писцовых книгах. Это, по его мнению, означает, что в 1581/82 г. в Деревской пятине этих лет не было [260] Скрынников. Россия, с. 178; ср.: Корецкий. Закрепощение, с. 124.
. Но писцовые книги составлялись по определенному формуляру, выработанному многими предшествующими описаниями. Поэтому в них нововведение могло быть просто не внесено, тем более что по первоначальному замыслу оно носило временный характер, а книги рассчитаны были на длительное использование. Собственно говоря, ушли ли крестьяне в заповедные или в обычные годы, для составителей писцовых книг не представляло интереса. Их волновало прежде всего наличное население, «живущие» сохи. Сохи, лежавшие «в пусте», интересовали их только как земельный фонд, а не как населенные когда-то кем-то дворы. Заповедные лета не упоминались не только в писцовых книгах. Они не всегда отмечались и в делопроизводственных материалах даже при сыске беглых крестьян. Так, о них нет ни слова в деле по челобитью помещика Едровского стана Деревской пятины Д. И. Языкова, в котором упоминаются его крестьяне, бежавшие в 1587/88 г. Впрочем, неизвестно, был ли этот год заповедным [261] Корецкий. Закрепощение, с. 321–336. Не упоминаются заповедные лета и в деле В. Г. Скобельцына, содержащем выписки из писцовых книг о крестьянах, бежавших в 1600/01 г. (Анпилогов, с. 421–425). Р. Г. Скрынников полагает, что крестьяне бежали в 1586–1587 гг., а «эти годы были в Едровском стане бесспорно заповедными» (Скрынников. Россия, с. 188). В данном случае Р. Г. Скрынников повторил ошибочную дату В. И. Корецкого (Корецкий. Закрепощение, с. 111), а в документе — 1587—88 г. (там же, с. 321, 323, 325, 326 и др.).
.
Появление формулы о заповедных летах связывают с существованием их уже во второй половине 80-х годов, и в частности с вопросником (наказом) дьяка С. Емельянова, в котором спрашивалось: «В прошлом 91-м году князь Михайло Кропоткин… крестьян насильством… в свое помистье… в заповидныи годы вывез ли?» По Р. Г. Скрынникову, «именно наказ дьяка Емельянова… был тем источником, из которого термин «заповедные годы» попал в едровские грамоты 1588—589 гг.» [262] Самоквасов, т. II, с. 453; Скрынников. Россия, с. 187.
. «Ретроспективная» теория происхождения упоминаний о заповедных летах начала 80-х годов XVI в. Р. Г. Скрынникова, от которой он иногда отказывается, [263] Скрынников. Россия, с. 196. Противоречивость концепции Р. Г. Скрынникова подметил Б. Н. Флоря (Флоря. Война, с. 201).
. представляется неубедительной. Точность сведений в дьяческом делопроизводстве, когда речь касалась владельческих прав, и в частности сыска беглых крестьян, не подлежит сомнению.
Итак, во всяком случае в Едровском стане Деревской пятины заповедными были 1581/82—1584/85 гг., как писали губные старосты в отдельной грамоте 12 июня 1585 г., еще до наказа С. Емельянова. Заповедными были и 1585/86—1586/87 гг. Источником сыска крестьян, вышедших в заповедные годы, были писцовые книги. Так, по обыску 1587/88 г. сыскивался крестьянин деревни Марьин Рядок Деревской пятины, записанный в книги 1582/83 г. [264] Анпилогов, с. 416; Скрынников. Россия, с. 197. Считать этот случай «не вполне типичным», как это полагает Р. Г. Скрынников, оснований нет.
.
Читать дальше
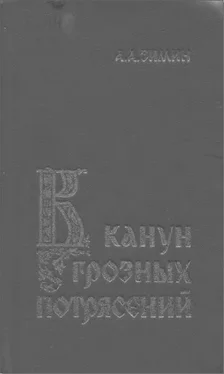
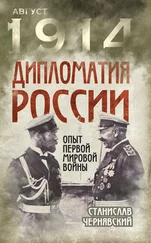

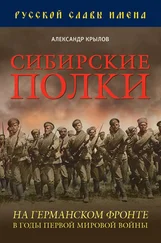
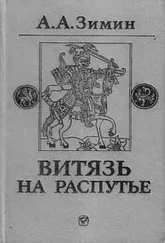




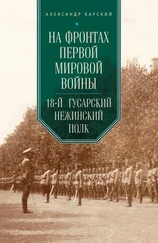
![Сергей Лавренов - Европа и Россия в огне Первой мировой войны [К 100-летию начала войны]](/books/411139/sergej-lavrenov-evropa-i-rossiya-v-ogne-pervoj-mirovoj-vojny-k-100-letiyu-nachala-vojny-thumb.webp)