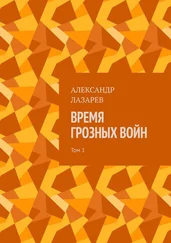В том же духе писал папский нунций Андреа Калигари: 31 января 1580 г. — что Федор отдалился от отца, а 28 марта — что «царь находится в противоречии с сыновьями и всем народом» и именно поэтому «хочет мира». Эта картина больше соответствовала «желаемому» польскими дипломатами, чем реальности. Подобные слухи питались какими-то разговорами, от которых до действительного положения вещей было очень далеко. Подобный же характер носит и дневниковая запись Яна Зборовского от 21 августа 1580 г. Русские пленные якобы говорили, что царь, не доверяя своим людям, «приказал собраться владыкам, митрополитам со всей земли, просил у них прощения, признаваясь в грехах своих и смиряясь перед богом, в особенности за те убийства, которые чинил над ними, подданными своими, обещал теперь быть добрым… Бедняги москвичи с большим плачем все ему отпустили и присягали верными быть». Присягу, по Б. Н. Флоре, приносили, очевидно, «члены боярской думы и, возможно, представители каких-то других категорий находившихся в Москве служилых людей». Присягала якобы целые районы. Так, какой-то князь послан был в ливонские замки, «чтобы все московские люди перед ним присягали защищаться до смерти от короля» [234] Шмурло Е. Ф. Памятники культурных и дипломатических сношений России с Италией, т. I, вып. 1. Л., 1925, № 135, 150, 268; Флоря. Война, с. 188.
. Что скрывается реально за этими слухами, пока выяснить не удается, а умозрительные догадки вряд ли помогут делу.
М. Н. Тихомиров к 1580 г. относит созыв Земского собора, на котором обсуждались перспективы Ливонской войны. 8 января 1581 г. Филон Кмита писал Стефану Баторию, что схваченные у Холма дети боярские «дали показание, что великий князь в то время имел у себя сейм, желая знать волю всех людей, своих подданных, вести ли войну или заключить мир с вашим королевским величеством. Они показали, что вся земля просила великого князя, чтобы заключил мир, заявляя, что больше того с их сел не возьмешь, против сильного господаря трудно воевать, когда из-за опустошения их вотчин не имеешь, на чем и с чем. И говорят, что решили мириться с вашим королевским величеством, отдать все замки инфлянтские, чтобы только добиться перемирия. И не только с вашим королевским величеством, но и с другими, и с царем перекопским» [235] Коялович, с. 182–183; Тихомиров. Государство, с. 60–61.
.
Экспедиция к Холму, когда в плен попали дети боярские, на которых ссылается Ф. Кмита, состоялась в декабре 1580 г. Поэтому, согласно Б. Н. Флоре, собор мог созываться около ноября — декабря 1580 г. Вопрос о переходе всей Ливонии к Баторию (о чем упоминает Кмита) встал только в августе, а переговоры возобновились и того позже (12 октября). Отзвук этого «собора» якобы звучал в инструкции 1582 г., данной послу Ф. А. Писемскому. В ней говорилось: «.. в которых людех и была шатость, и те люди, вины свои узнав, государю били челом и просили у государя милости, и государь им милость показал» [236] Флоря. Война, с. 195; Путешествия русских послов XVI–XVII вв., с. 117, 393. По Б. Н. Флоре, даже введение заповедных лет было следствием выступления дворян на «соборе 1580 г.» (там же, с. 200–201). Колеблющуюся позицию в вопросе о соборе 1580 г. занял Н. И. Павленко. Он считает, что «не исключено», что сообщение Кмиты имеет в виду церковный собор, но, возможно, собирался и земский (Павленко, с. 100–101).
. Я. С. Лурье справедливо считает, что в инструкции речь шла о церковном соборе 1580 г. Думается, то же самое можно сказать и о путаном известии Ф. Кмиты [237] Разбор фактических ошибок Кмиты см.: Скрынников. Россия, с. 52–53.
.
Начиная кампанию 1580 г., Баторий 15 июня отправился из Вильны. Его армия насчитывала свыше 48 тыс. человек. На военном совете, созванном в начале июля, обсуждался план проведения операций. Рассматривались три варианта направления похода: на Псков, Смоленск и Великие Луки. Предпочтение было отдано третьему. Великие Луки представляли собой важнейший стратегический пункт, где обычно собирались русские войска, готовясь к военным действиям с Великим княжеством Литовским [238] Kotarski Я. Wojsko polsko-litewskie podczas wojny Inflanskiej 1576–1582. Sprawy organisacyine, cz. 3. Studia i materialy do historíi wojskowosci, t. XVII, cz. II. Warszava, 1971, s. 110. По Новодворскому, под Луками у короля было не более 35 тыс. человек (Новодворский, с. 164). Ср.: Дневники второго похода Стефана Батория на Россию. — ЧОИДР, 1897, кн. 1, с. 1–68; Помяловский М. И. Диариуш (дневник) Я. Зборовского, каштеляна гнезненского, о походе Батория в 1580 г. — Труды псковского Археологического общества 1910–1911 гг., вып. 7. Псков, 1911, с. 3–32; Natanson-Leski J, Op. cit., s. 56–72; Гейденштейн, с. 106–107; Новодворский, с. 137–138; Скрынников. Россия, с. 50; Великие Луки. Исторические очерки. Л., 1976, с. 27–28.
. Взятие этого города как бы вбивало клин между Ливонией и основными русскими землями. Поэтому захват Великих Лук был важной стратегической целью. Взятие же Смоленска и Пскова, как это и показали последующие события, вряд ли могло быть осуществлено, учитывая даже численность армии Батория.
Читать дальше
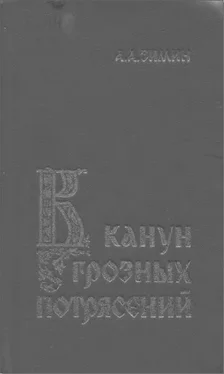
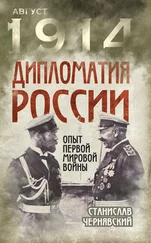

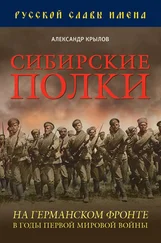
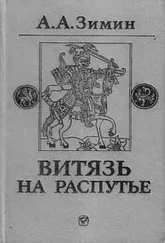




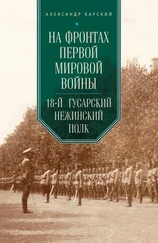
![Сергей Лавренов - Европа и Россия в огне Первой мировой войны [К 100-летию начала войны]](/books/411139/sergej-lavrenov-evropa-i-rossiya-v-ogne-pervoj-mirovoj-vojny-k-100-letiyu-nachala-vojny-thumb.webp)