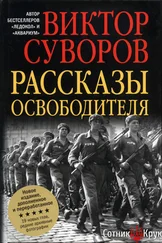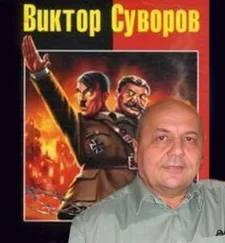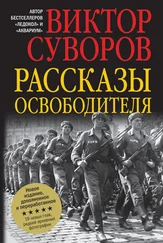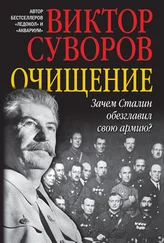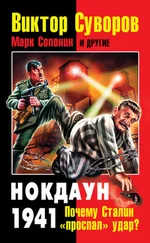Поверьте, я ничуть не шучу и не ерничаю. Игра в «стрелялки» роковым образом препятствует понимаю простой причины военной катастрофы 41-го г. И вот почему: забавный человечек на экране монитора всегда абсолютно послушен вам. Легким движением компьютерной «мышки» вы можете направить его в переулок, который кишит злобными монстрами, — и он пойдет. Без вопросов. Монстры сожрут его, другого, десятого — следующий пойдет по «трупам», беспрекословно выполняя ваши команды. Компьютерные игры совершенно не предполагают возможность того, что человечек вдруг вылезет из летающе-ныряющего ракетного танка, бросит на землю лазерный бластер и, матерно ругаясь, покажет вам большую дулю. В игре такого не бывает. А в реальной истории такое уже случалось бессчетное число раз. Огромная армия персидского царя Ксеркса, воинов которой гнали в бой кнутами (не в переносном, а в прямом смысле этого слова), не смогла совладать с маленьким «пятнышком» на карте, называемым «Древняя Греция». Численно ничтожная армия Александра Македонского завоевала огромные пространства Персидской империи вовсе не потому, что кони в персидской коннице были «безнадежно устаревшими», а серпоносные колесницы «выработали почти весь моторесурс». Крохотный Израиль раз за разом громил многочисленные арабские армии, а вооруженные силы богатейшей страны мира так и не справились с вьетнамскими партизанами, ловившими вертолеты сетями, сплетенными из дикорастущих лиан…
Строго говоря, ни советская, ни считающая себя продолжательницей ее дела часть российской историографии никогда и не отрицала роль «человеческого фактора». Ни в коем разе! Наоборот, неустанное повторение «мантры» про «обстановку всенародного патриотического подъема» было неотъемлемой частью любой публикации, посвященной событиям советско-германской войны. Появилась даже новая отрасль военно-исторической науки: «героика войск».
И я опять не шучу. На полке у меня стоит книжечка, которая просто потрясла меня потоком грубейших фактических «ляпов». На первой же странице текста в первом абзаце сообщается, что Тимошенко сменил Ворошилова на посту наркома обороны СССР… знаете когда? «В декабре 1940 г.». Дальше — больше, и все в том же духе. Кто же автор? На обложке читаем: «полковник, доктор исторических наук, профессор, автор 300 печатных (лучше было бы сказать — непечатных) работ по теории и истории военного искусства и героике войск». Разумеется, писать про «героику войск» доходнее и прелестней. И гораздо проще — не надо проверять ни одной цифры, ибо какая, в конце концов, разница: 15-я или 51-я, танковая или стрелковая дивизия совершила свой подвиг в октябре или ноябре 14-го или 41-го г.? Вообще же логика советской пропаганды не может не изумлять: она (пропаганда) готова была признать почти любой «негатив». Могла согласиться с тем, что в ходе раскулачивания имели место «отдельные перегибы», а сплошная коллективизация не всегда была добровольной, что во время массовых репрессий 37–38-го гг. были допущены «нарушения социалистической законности», да и жизнь в «коммуналках» и бараках была не очень сытной и веселой. Но вот допустить хотя бы тень сомнения в том, что подданные сталинской империи «как один человек с радостью готовы отдать жизнь за великое дело Ленина — Сталина, и во имя этой идеологии бойцы, командиры и политработники готовы всегда отдать свою жизнь» (Ворошилов, речь на XVIII съезде партии) — нет, нет и еще раз нет! Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда!
Впрочем, не будем сверх меры и разума преувеличивать роль пропаганды. Пропаганде верят тогда, когда очень хотят в нее поверить. Раз уж мы заговорили про литературу, то как тут не вспомнить бессмертную пушкинскую строку: «Ах, обмануть меня не трудно — я сам обманываться рад». Тупой и примитивной советской пропаганде верили не всегда. Сколько ни талдычили по радио и ТВ про «загнивание Запада и третий этап общего кризиса капитализма», а народ так и норовил на этот самый «загнивающий Запад» слинять — если уж и не навсегда, то хотя бы в турпоездку за джинсами и японским «двухкассетником». Сколько ни предупреждали знающие специалисты и умеренно приличные политики о том, что рыночная экономика — это не молочная река с кисельными берегами, а в конкурентной борьбе не может «победить дружба», никто их не услышал и им не поверил. В героические мифы советской истории по сей день верят потому, что очень хотят в них поверить. Что другое может найти современный россиянин в истории XX века, что могло бы подкрепить и оправдать его великодержавные амбиции? Чем еще ему гордиться? Нынешним статусом, извините за выражение, «великой энергетической державы»? Московскими офисами, построенными из финских и итальянских материалов на немецкой технике турецкими строителями, в которых несколько тысяч «менеджеров среднего звена» протирают импортные штаны импортными стульями, подсчитывая на импортном компьютере доходы от экспорта российской нефти?
Читать дальше