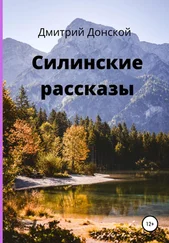Знавали и в прежние времена разбойную повадку литовского соседа. Набегал то и дело малыми отрядами — то на Можайск, то на Ржеву, то на иные пограничные городки, и вошла уже было в привычку эта лёгкая, дурашливо-ребячливая его повадка: подползти тайком, вдруг вломиться, продержаться недельку-другую и пуститься наутёк.
Но вот приходилось и к иной рати привыкать — беспощадной, тяжёлой, как стадо лесных быков, кинувшихся топтать озими, кромсать зароды. Приходилось и с торжеством Михаила, на чужом хребте въехавшего в Тверь, временно смиряться.
Но ошеломление Москвы длилось недолго. Благо имелось жито в заповедных закромах и водилась лишняя гривна про чёрный день. С той же зимы быстро стали отстраивать московские посады из сухого, промёрзшего до звонкости леса; налаживалась жизнь в разорённых сёлах, княжьи и боярские волостели записывали льготы тяглым своим сиротам — на обзаведение жильём и скотом, семенным зерном под будущую ярь.
А в хоромине княжого совета осунувшийся с лица Дмитрий, у которого тёмно-русый пушок уже появлялся на губах и на подбородке, давал последние наказы перед разлукой двоюродному брату Владимиру.
II
Князю Владимиру Андреевичу, внуку Калиты, будущему Серпуховскому, по прозвищу Храбрый, или, как его ещё нарекут, Донской, шёл сейчас шестнадцатый год. В долгой и беспорочной службе своей московскому делу он насчитает, пожалуй, не меньше воинских походов, чем было за спиной у его великого предка и тезоименита Владимира Мономаха. Но нынешний поход, в который его провожала Москва, был для молодого человека первым по-настоящему самостоятельным, по-настоящему трудным. Не брать же в счёт совсем ещё детские выезды во Владимир.
Он был до конца посвящён во всё то, что сейчас на уме у Дмитрия: надо как можно скорее дать понять окружающим, что опустошительный набег Ольгерда и Михаила, несмотря на свои страшные последствия, ничего не может изменить по сути в московской политике. Направленность её остаётся незыблемой: превращение великого (пока лишь на письме) княжества Владимирского в подлинный государственный монолит с единой волей и правдой; сплочение силы, способной в действительности, а не в мечтах и гаданиях поднять всю землю в согласном и братском порыве к свободе.
Накануне стало известно, что небывалое бедствие постигло Великий Новгород: от страшного пожара, подобного которому что-то и не помнили на Волхове, пострадал внутри весь детинец, в том числе рухнул владычный двор, даже в каменной Софии опалило иконы, книги и деревянные подкупольные связи. Огонь отхватил целый кус от громадных новгородских посадов — весь Неревский и Плотницкий концы. К тому же через надёжных людей прознали новгородцы, что в Ливонии спешно ведутся воинские приготовления, подстрекаемые слухом о губительном том пожаре.
По старинным, от веку заведённым правилам великий князь владимирский на первый же призыв Новгорода о воинской помощи обязан откликнуться, прибыть с дружиной в город Святой Софии либо, если сам не может, послать взрослого сына.
Но когда-то ещё вырастет у Дмитрия сын! Юная жена его только недавно понесла (о чём и поведала ему со стыдливой радостью). Сам же он покидать Москву сейчас не мог — надо было собственным присутствием подбодрить людей, самому ежедневно следить за строительными работами в городе и волостях.
И он как старшего сына, как чрезвычайного великокняжеского наместника послал в Новгород Владимира, придав ему испытанных воевод и небольшую, но отборную дружину. Владимир приободрит вечников своим присутствием. Пусть видят: Москва хоть и сама в беде, но их несчастье переживает, о великокняжеских своих обязанностях памятует, о проказах же ушкуйнических не злопамятствует, по пословице: кто старое разворошит, тому и глаз вон. Пусть и в Пскове побывает младший брат, а случится ему на ливонцев поглядеть, пусть и о них проведает, каковы немцы в бою.
На Новгород из Москвы было три дороги, и все — речные да озёрные. Самая длинная — восточная, через Белоозеро, Онегу и Ладогу. Посередине была дорога ближайшая — вверх по Тверце до Торжка и до Волочка Вышнего, а оттуда по Мете в самое Ильмень-озеро. Но на устье Тверды стоит враждебная Тверь, и, значит, этот путь ныне заказан. Была и ещё удобная дорога — через Волоколамск, вверх по Волге до новгородской крепости Кличен, стоящей на Селигере-озере, и далее — протоками и волоками Оковского леса, мимо заповедного камня с «божьей ножкой». Но тут нужно, ещё Волгой поднимаясь, миновать Зубцов и Ржеву. В Зубцове же сейчас — тверская власть, Ржева — опять литовцами занята. А ведь всего несколько месяцев назад, как раз перед тем, как Михаила на Москве в узилище посадили, Владимиру Андреевичу посчастливилось вести полк на Ржеву и выколотить оттуда литовцев. Но лёгкий, удачливый поход по сравнению с тем, что ему сейчас предстояло, был как бы не в счёт.
Читать дальше
![Юрий Лощиц Дмитрий Донской, князь благоверный[3-е изд дополн.] обложка книги](/books/195967/yurij-lochic-dmitrij-donskoj-knyaz-blagovernyj-3-cover.webp)
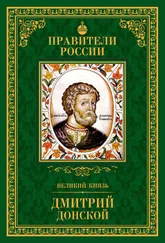

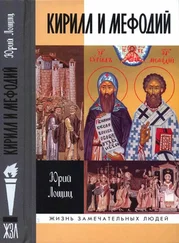



![Виталий Останин - Князь Благовещенский [СИ с изд. обложкой]](/books/427875/vitalij-ostanin-knyaz-blagovechenskij-si-s-izd-ob-thumb.webp)