Было отчего растеряться молоденькому Дмитрию Ивановичу! Хоть и не надеялся, что управятся со сборами, но всё же повелел разослать по городам и волостям грамоты, созывающие ратных. Как только подоспели полки из Коломны и Дмитрова, он, присовокупив их к московской рати, направил сводный сторожевой полк в сторону Рузы. И, как выяснилось, напрасно! Было поспешное это решение явной ошибкой юного князя, не имевшего, видимо, точных сведений о размерах литовского стана, да и вообще не вкусившего пока настоящей войны; лучше бы он приберёг сводный полк в стенах Кремля. У речки Тростны, к северу от Рузы, литовский вал с треском и воем сшиб сторожевую рать и втоптал её в мёрзлую землю; погибли оба московских воеводы — Дмитрий Минин и Акинф Шуба.
Ольгерд приказал собрать пленных московитов с поля боя и под пыткой вершить дознание: где находится Дмитрий, есть ли у него ещё рать, велика ли? Все отвечали, как сговорившись: великий князь сидит в Москве, а ратей новых он не успел собрать. Недоверчивый Ольгерд, всегда опасавшийся ложных сведений из уст противника, сейчас мог быть спокоен: каждого пытали отдельно от других. Значит, Москву нужно брать, и поскорей.
Но ещё в окрестностях города озадачил его прочный запах гари. Неужто кто иной поспел на даровую поживу раньше, чем он? От кудринского холма открылось Ольгерду диковинное зрелище: за тёмным извивом Неглинной, на противоположном холме, по левую руку, чернели обугленные остовы посада, а по правую, над мусором чадных головешек, упираясь главами в низкое сумеречное небо, глыбился Град. Было что-то в этом зрелище дерзко-вызывающее, но и беспрекословное.
Так вот она какова ныне — Москва! Глядя на зубастый оскал стен, на тучные туловища насупленных башен, литовец лучше теперь понимал, почему так настойчиво, не стесняясь унизиться, упрашивал его Михаил Тверской о скорейшем походе. Но, кажется, они оба припозднились на пир.
Сколько ни воевал Ольгерд, нигде, ни в чьих землях не видел, ни из каких книг не слыхал, чтобы осаждённые перед тем, как затвориться в городе, сами сжигали дотла свои посады. Эта решительность, граничащая то ли с отчаянием, то ли с завидным равнодушием к любому земному нажитку, приобретённому годами труда, крепко озадачила его навидавшуюся всяческих див душу. Сама по себе цель поджога с военной точки зрения была в общем-то понятна: Дмитрий не хочет, чтобы в руки осаждающих попала целая гора строевого леса, из которого легко понаделать щитов, лестниц, метательных машин и примётов: не захотел он оставить гостям и готовое жильё на случай продолжительной осенне-зимней осады. Но, может быть, сам не ведая того, Дмитрий добился гораздо большего: безжалостно спалив свои посады, он показал, что готов на всё, что будет стоять до конца. И — тоже ведь немаловажно! — что ему невелик труд отстроиться заново.
Такая война не нравилась Ольгерду. Он не ордынский хан и потому считает своих воинов поимённо, а не по сотням, тысячам и тьмам. Ему неприятно смотреть, как его люди муравьями карабкаются по стенам, а сверху им за шиворот льют кипяток или сыплют в глаза песок из мешков. Громадное войско три дня бездействовало у стен Кремля. Чувствовалось по всему — по густоте стрельбы сверху, по шумам и гулам, доносящимся из-за стен, что ратных там полным-полно; и, наверное, не пленные солгали, а поспела всё же к Дмитрию ещё подмога. Но ворот не открывали и вылазок не устраивали, как ни пробовали их выманить.
Ольгерд заскучал, задосадовал, освирепел. Собрать столько всадников, прийти в этакую даль и не осушить бранной чаши? Надолго же запомнит Дмитрий своё негостеприимство!
К четвёртому дню осада, так и не налаженная толком, была снята, и истоптанные, в пятнах кострищ склоны Занеглименья обезлюдели. По Кремлю прокатился единодушный выдох облегчения: ушли…
Но как они уходили?! Ольгерд на обратном пути разрешил своим воинам как следует прошерстить всю землю московскую, брать в полон каждого, кто приглянется, отбирать весь хлеб, весь скот и всю живность, жечь людские жила, сенные зароды и медовые варницы, кузни и мельницы — всё! Жестокость опрометчивая со стороны человека, мечтающего стать политическим вождём всей Руси.
Старики потом прикидывали, что уж сорок лет, пожалуй, от самой Федорчуковой рати, не видано было на Руси таковой лютой напасти. Ордынский погром 1327 года не зря приходил на ум — Ольгерд показал, что в жестокости по отношению к безоружному пахарю он готов перещеголять и степняков-азиатов.
Читать дальше
![Юрий Лощиц Дмитрий Донской, князь благоверный[3-е изд дополн.] обложка книги](/books/195967/yurij-lochic-dmitrij-donskoj-knyaz-blagovernyj-3-cover.webp)
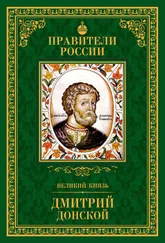

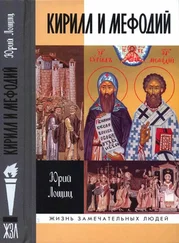



![Виталий Останин - Князь Благовещенский [СИ с изд. обложкой]](/books/427875/vitalij-ostanin-knyaz-blagovechenskij-si-s-izd-ob-thumb.webp)


