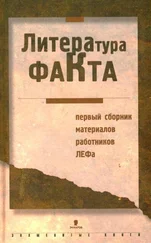В своей речи 20 июня 1941 г. Розенберг заявил, что немцы обязаны подумать над тем, что Германия не должна бороться каждые 25 лет за свое существование на Востоке. Но он ни в коей мере не желает уничтожить славянские народы. Он желает способствовать развитию всех народов Восточной Европы, развитию их собственных государств, но не уничтожению...
В приведенной речи имеется также пункт, который обвинение особо вменяет ему в вину и который заключается в том, что, по его словам, снабжение германского народа в эти годы, несомненно, будет составлять одно из главных германских требований к Востоку и что южные области и Северный Кавказ Должны поддерживать на определенном уровне снабжение германского народа.
Затем Розенберг продолжает:
«Мы отнюдь не считаем, что обязаны снабжать русский народ продуктами из этих областей, Располагающих излишками. Мы знаем, что это представляет собою жестокую необходимость, исключающую любые чувства. Возникает необходимость в эвакуации населения в большом масштабе, и русским предстоит пережить тяжелые годы. В каком размере там будет сохранена промышленность, будет решаться позже».
Этот момент является совершенно неожиданным и стоит изолированно в длинной речи. Ясно чувствуется: он просто втиснут в общий контекст, но это не голос Розенберга. Розенберг не провозглашает здесь своей собственной программы, а лишь только констатирует факты, которые не зависят от его воли...
Сейчас я перейду к вопросу об автоматической ответственности Розенберга как министра по делам восточных областей, то есть к вопросу об уголовной ответственности, которую он несет в силу занимаемой должности. Речь идет об уголовной ответственности Розенберга, о его ответственности за те преступления, которые он якобы совершил сам, и за преступления других.
Известно, что 17 июля 1941 г. Розенберг был назначен имперским министром по делам оккупированных восточных областей. В качестве двух суверенных территориальных областей были созданы два рейхскомиссариата: Остланд (Эстония, Латвия, Литва и Белоруссия) с рейхскомиссаром Лозе и Украина, подчинявшаяся рейхскомиссару Коху.
Далее особое значение имеет то, что Розенберг, будучи министром, не являлся главой всей администрации на Востоке, что одновременно существовало несколько высших лиц. Уполномоченный по четырехлетнему плану Геринг был ответствен за руководство экономикой во всех оккупированных областях и в этом отношении он являлся начальником министра по делам восточных областей, ибо Розенберг мог лишь только с согласия Геринга издавать распоряжения по экономическим вопросам. Начальник германской полиции Гиммлер был ответствен за обеспечение полицейского порядка в оккупированных областях.
В министерстве по делам оккупированных восточных областей вообще не было полицейского управления, не располагали таковыми и рейхскомиссары.
Компетенция Розенберга также ущемлялась «рейхскомиссаром по консолидации германского народа» Гиммлером, а также Шпеером, в пользу которого на основании указа фюрера из компетенции администрации по делам восточных областей была выделена вся промышленность, и, кроме того, Геббельсом, который оставил за собой ведение пропаганды также и в восточных областях.
Мне кажется, что решающее значение имеет то обстоятельство, что Розенберг являлся министром по делам восточных областей, но не был сувереном. Суверенами являлись рейхскомиссары колоссальных территорий — Остланда и Украины. Еще не были выработаны принципы будущего нашего государственно-правового порядка в этих областях, но одно уже было ясно: главой являлся рейхскомиссар. При проведении таких важных мероприятий, как расстрел жителей области за акты саботажа, он выступал в качестве лица, которое обладает правом выносить окончательное решение. Я хочу добавить, что в действительности полиция была единственной инстанцией, у которой была сосредоточена вся компетенция такого характера. Правительство, а следовательно, и другие инстанции обладали правом издания основных законов и правом верховного надзора. Положение Розенберга как министра по делам восточных областей можно изобразить, перефразировав известное изречение французского ученого в области государственного права Бенджамена Констана: «Король царствует, но не управляет» — следующим образом: «Министр управляет, но не царствует».
Существовала суверенная власть рейхскомиссара с центральным верховным надзором, осуществлявшимся министром по делам восточных областей... Следовательно, я прихожу к тому выводу, что не может быть автоматической уголовной ответственности Розенберга за то, что он не воспрепятствовал совершению преступлений на Востоке, уже потому, что, хотя в его руках и был верховный надзор, он не являлся сувереном. Суверенами были оба рейхскомиссара.
Читать дальше