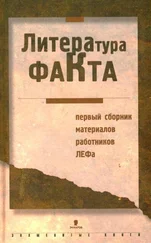Теперь я перейду к аргументу о том, что положение об уголовной ответственности несовместимо с понятием о национальном суверенитете. Профессор Ярайсс, адвокат, выступавший от имени защиты по общеправовым вопросам, согласен с тем, что государство может совершить нарушение международного права, но он утверждает, что наложение на государство уголовной ответственности и наказание его явятся отрицанием суверенитета государства.
Странно видеть, что подсудимые, которые, действуя в качестве членов германского правительства, захватили большинство европейских государств и грубо попирали их суверенные права, которые с кичливым и чванливым цинизмом подчиняли суверенитет завоеванных государств новому понятию «гроссрауморднунг», [45] То есть установление порядка на огромных территориях. — Прим. сост.
сами взывают к мистической силе святости суверенитета государства. Не менее удивительно, быть может, что они обращаются к ортодоксальному международному праву для того, чтобы защитить побежденное Германское государство и его правителей от справедливой кары победоносных держав. Но в международном праве не существует положения, к которому они смогли бы для этого прибегнуть. В некотором смысле нестоящий процесс не ставит своей целью наказание Германского государства. Он занимается наказанием отдельных лиц. Однако выглядело бы довольно странно, если бы отдельные лица несли уголовную ответственность за действия государства, которые сами не являлись бы по существу преступлениями. Совершенно беспочвенной является точка зрения, что положения международного права исключают уголовную ответственность государств и что, так как, будучи суверенными, государства не могут быть подвергнуты принуждениям, все их действия являются законными. Пусть пуристы от права утверждают, что все, что не предписано сверху суверенным органом, обладающим властью принуждать к повиновению, не является законом. Такое понятие, которого придерживаются юристы-аналитики, никогда не применялось к международному праву. Если бы оно применялось, не могло бы существовать несомненных обязательств государств в отношении договоров и нарушений гражданского права.
Возможно, правильно, что до войны в международных отношениях не существовало верховного органа, который одновременно предписывал бы нормы международного права и претворял их в жизнь. Но, по крайней мере, в международных отношениях существование закона никогда не зависело от наличия соотносящейся с ним санкции, существующей помимо самого закона. Международное право всегда основывалось на принципе общего согласия, и, поскольку существует комплекс правил, которые по общему согласию или договору являются обязательными для членов всемирного сообщества, данные правила становятся законом для этого сообщества, несмотря на то, что согласие не было достигнуто путем принуждения и, быть может, не применялись прямо или извне акции для того, чтобы обеспечить повиновение. Дело в том, что абсолютный суверенитет в старом смысле этого слова, к счастью, перестал существовать. Это понятие, совершенно не соответствующее обязательствам, налагаемым любым международным договором.
В процессе работы Постоянной палаты международного правосудия ссылка на суверенные права государств стала избитым аргументом для доказательства того, что, так как государства суверенны, принятым ими договорным обязательствам следует давать, по крайней мере, ограниченное толкование. Постоянная палата последовательно боролась с этой точкой зрения. В самом первом своем решении, решении против Германии по Уимблдонскому делу, она отклонила аргумент о суверенности как основание для ограниченного толкования договорных обязательств. Постоянная палата отказалась рассматривать договор, согласно которому государство обязуется следовать определенной линии поведения, как отказ от своего суверенитета. Постоянная палата напомнила Германии о том, что само право принять на себя международные обязательства является атрибутом суверенитета государства. Обратившись к области философии, скажем, что право заключать договоры и право на свободу действия находятся, как мне кажется, в вечном противоречии.
Но точно так же, как отдельное лицо обеспечивает себе свободу тем, что придерживается законов, суверенные государства подобным же образом сохраняют свой индивидуальный статус. Уже давно отказались от точки зрения, что, поскольку государство суверенно, оно не может быть подвергнуто принуждению.
Читать дальше