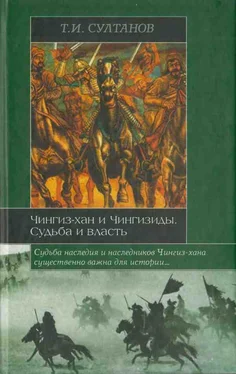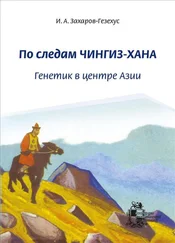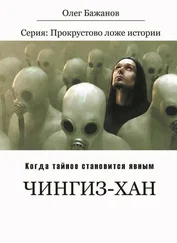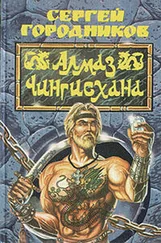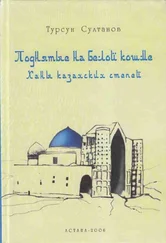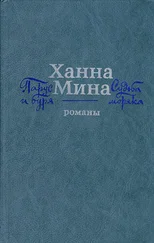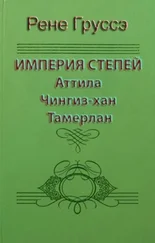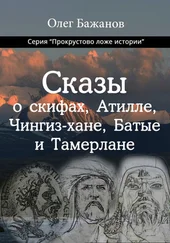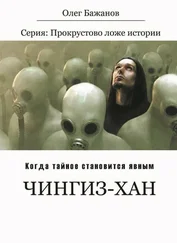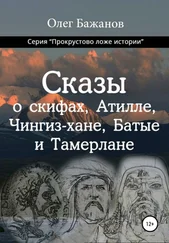Так или иначе, отступления от порядка старшинства (генеалогического, когда старшинство определяется порядком поколений, т. е. расстоянием от родоначальника, и физического, когда старшинство определяется порядком рождения, т. е. сравнительным возрастом лиц в каждом поколении) бывали часто. В чингизидских улусах видим иной порядок, который не был ориентирован на очередность старшинства, но передача власти происходила в одном поколении — от брата к брату. Действие этого порядка, который в исследовании Г. А. Федорова-Давыдова назван «архаическим порядком престолонаследия» [49] Федоров-Давыдов Г. А. Общественный строй Золотой Орды. М., 1973. С. 104, прим. 191.
, хорошо иллюстрируют политические события в Чагатайском государстве; там, например, в первой трети XIV в. один за другим правили пятеро братьев, сыновья Дувы: Есен-Буга (1308–1318), Кебек (1318–1326), Ильчигидай (ок. 1326–1328), Дурра-Тимур (ок. 1328–1330), Тармаширин (ок. 1330–1334) ( Мунтахаб ат-таварих , изд., с. 107–111; Шаджарат ал-атрак , с. 368–371; Бахр ал-асрар , Т. 6. Ч. 2, л. 14б-23а) [50] Бартольд В. В. Сочинения. Т. 5. С. 161–163.
.
Наблюдения показывают, что нередко престол занимали в порядке прямого наследования, т. е. власть переходила непосредственно от отца к сыну (а при смерти или болезни сына — к внукам). Переход ханского достоинства по прямой восходящей линии не вызывал особого сопротивлениями потому в политической жизни чингизидских улусов и образованных на их развалинах государствах этот порядок престолонаследия соблюдался на протяжении многих десятилетий кряду.
Каждый из перечисленных выше порядков престолонаследия признавался традицией правильным, и вопрос о предпочтении того или иного из них решался всякий раз с учетом конкретных обстоятельств. Поэтому, по замечанию В. В. Бартольда, обсуждение вопроса о том, какой из Чингизидов в том или другом случае имел больше прав на престол и было ли избрание того или другого хана законным, не является корректным [51] Бартольд В. В. Сочинения. Т. 1. С. 109.
.
Передача верховной власти преемнику происходила разными путями. Одним из них было духовное завещание. Хотя передача власти по завещанию и не была ни общим фактом, ни общепризнанным правилом, но она практиковалась на всем протяжении существования династии Чингизидов, начиная с самого Чингиз-хана и Угедей-хана и кончая ханами Казахских степей XIX в. Наследник престола определялся по усмотрению завещателя и обычно объявлялся заранее. Чтобы завещательное распоряжение государя получило большую гласность, в некоторых случаях имя законного наследника престола упоминалось в хутбе (проповедь по пятницам в мечети) и чеканилось на монетах с титулом «наследник престола». Как показывают материалы источников, наследником престола по завещанию являлся прежде всего сын завещателя (завещание Чингиз-хана, Шейбани-хана, Букей-хана и др.), но также — его внук (завещание Угедея, Чагатая, Тимура и др.) или брат (завещание Газан-хана, Мухаммад-Гирей-хана, Абд ал-Азиз-хана и др.), даже при сыновьях.
Политическое завещание делалось устно, в присутствии представителей царствующего дома и знати, или письменно, и те давали письменное заверение-клятву исполнить духовную. Выше уже было рассмотрено завещательное распоряжение Чингиз-хана. (Напомню, Чингиз-хан еще при жизни назначил своим преемником своего третьего сына Угедея и незадолго перед смертью подтвердил свое политическое завещание.) Чтобы полнее охватить эту тему, приведу еще два примера из более позднего периода.
Тимур (правил в 1370–1405 гг.) еще при жизни назначил своим преемником своего внука Мухаммад-Султана, предпочтя его своим сыновьям [52] Бартольд В. В. Сочинения. Т. 2. Ч. 2. С. 57–58, 436; Manz B. F. The rise and rule of Tamerlane. Cambridge, 1989. P. 87–88, 189–190.
. Но судьба распорядилась по-иному. Во время военных действий Тимура в Малой Азии Мухаммад-Султан заболел и умер около Карахисара весной 1403 г., 29 лет от роду. Тогда Тимур назначил своим преемником другого своего внука, Пир-Мухаммада, брата Мухаммад-Султана, и перед своей кончиной подтвердил свое политическое завещание. Вот как описывается эта сцена в «Зафар-наме» Йазди, официальной истории Тимура.
В начале 1405 г. Тимур с большой армией выступил в поход на Китай и прибыл в Отрар (город на правобережье Сырдарьи). Там в начале февраля Тимур заболел, «сила болезни и боли все время возрастали». «Так как ум Тимура с начала до конца оставался крепким, — пишет Йазди, — то Тимур, несмотря на сильные боли, не переставал справляться о состоянии и положении войска. Когда вследствие своей проницательности он понял, что болезнь была сильнее лекарств, он мужественно приготовился к смерти, приказал явиться к нему женам и собственным эмирам и с чудесной предусмотрительностью сделал завещание и изложил свою волю в следующих словах: „Я знаю наверное, что птица души улетит из клетки тела и что мое убежище находится у трона Бога, дающего и отнимающего жизнь, когда Он хочет, милости и милосердию которого я вас вручаю. Необходимо, чтобы вы не испускали ни криков, ни стонов о моей смерти, так как они ни к чему не послужат в этом случае. Кто когда-либо прогнал смерть криками? Вместо того чтобы разрывать ваши одежды и бегать подобно сумасшедшим, просите лучше Бога, чтобы Он оказал мне свое милосердие, произносите и прочтите фатиху, чтобы порадовать мою душу. Бог оказал мне милость, дав возможность установить столь хорошие законы, что теперь во всех государствах Ирана и Турана никто не смеет делать что-либо дурное своему ближнему, знатные не смеют притеснять бедных, все это дает мне надежду, что Бог простит мне мои грехи, хотя их и много; я имею то утешение, что во время моего царствования я не позволял сильному обижать слабого, по крайней мере, мне об этом не сообщали. Хотя я знаю, что мир не постоянен и, не будучи мне верен, он не станет к вам относиться лучше, тем не менее, я вам не советую его покидать, потому что это внесло бы беспорядки среди людей, прекратило бы безопасность на дорогах, а следовательно, и покой народов, и наверное, в день Страшного Суда потребуют ответа у тех, кто в этом будет виновен“».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу