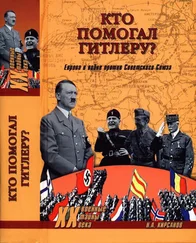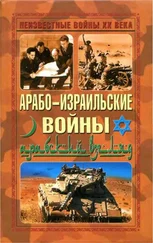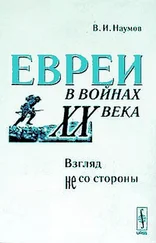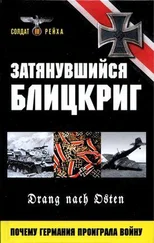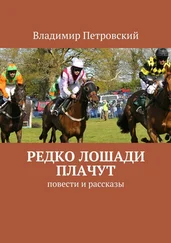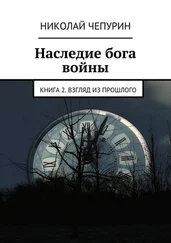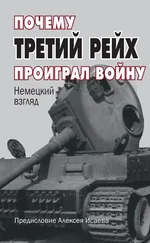Подавляющее превосходство союзников в воздухе особенно ярко проявилось в начале их высадки во Франции в июне 1944 года. Вечером дня «D» противник ввел в бой в общей сложности 14 674 самолета, которым могли противостоять только 319 немецких. Хотя действовавший на западе 3-й воздушный флот в последующие дни был усилен, соотношение сил в сравнении с врагом составляло в июне 1:25.
Германские Люфтваффе оказались сломлены поставленной перед ними огромной, неразрешимой двойной задачей: вести борьбу в воздухе на всех фронтах на Востоке, юге и западе и одновременно обеспечить защиту рейха. «Крепость Европа» не имела крыши.
Как же обстояло дело в области военной экономики и вооружения? Баланс продовольственного и сырьевого положения Германии в начале Второй мировой войны не оставлял никакого сомнения в том, что запасов, поскольку они не полностью производились в самой стране, хватит максимум на 9—12 месяцев ведения войны. (Зависимость от заграницы: цинк — 25 %, свинец — 50, медь — 70, олово — 90, никель — 95, бокситы — 99, минеральные масла — 65 и каучук — 80 %.) Необходимо было с самого начала радикально перестроить хозяйство на войну и перейти к планированию на длительный срок. Но формулирование и приоритетность различных производственных программ показывали, сколь мало высшее руководство исходило из целеустремленного, единого, охватывающего всю войну в целом плана, в котором как военно-политическая, так и экономическая сторона ведения войны в равной степени согласовывались бы друг с другом. В надежде быстро закончить войну оно только до лета 1941 года более 10 раз перерабатывало программы военного производства и заново определяло приоритетность тех или иных его отраслей. Начальнику управления военной экономики и вооружения ОКБ [генералу Томасу] даже пришлось в конце концов просить однозначно разъяснить ему, «что же действительно является самым важным». То на первом плане стояло производство боеприпасов, то программы выпуска подводных лодок и самолетов, а затем центр тяжести снова переносился на танки и химические вещества и т. д.
Эта вызывавшая большую нервотрепку борьба за приоритет в программах интересов между тремя составными частями вермахта (сухопутными войсками, ВВС и ВМФ) являлась не в последнюю очередь результатом недостаточной координации между ОКВ и главными командованиями сухопутных войск, военно-воздушных сил и военноморского флота. К тому же руководящие лица рейха только весной 1941 года пришли к пониманию того, что на случай более длительной войны гораздо важнее расширить сырьевую базу, чем просто увеличивать выпуск оружия и боеприпасов. Слишком медленное расширение германской военной экономики, несомненно, было решающей ошибкой. Однако это вовсе не значит, что она была для рейха равносильна потере «любого шанса на победу». Не идет здесь речь и об «упущенной возможности».
Ведь ни крупные достижения в эру Шпеера (1942–1945 гг.) в военной промышленности и экономике благодаря более совершенной организации производства, а также новым мерам по рационализации и тотальной мобилизации германской и иностранной рабочей силы, ни исчерпание хозяйственного потенциала захваченных областей неспособны были в конечном счете изменить тот факт, что даже и без усиленной воздушной войны германское производство готовой военной продукции могло быть повышено по сравнению с его максимальным уровнем (ср. июль 1941 года) всего лишь на 20–30 %. Но тогда бы военное производство натолкнулось на слишком низкий уровень покрытия сырьевых потребностей, на то узкое место, которое неизбежно должно было ограничить его. Ведь поддававшийся предвидению прогресс вражеских держав в области военного производства был столь огромен (уже в 1943 году соотношение ударной боевой силы между Германией и Японией, с одной стороны, и Соединенными Штатами, Великобританией и Советским Союзом — с другой, равнялось 1:3,4; к тому же противник (прежде всего США) мог почти совершенно беспрепятственно производить эту продукцию), что отставание Германии становилось бы все большим и при дальнейшем росте производства.
Полное расстройство германской экономики началось в 1944 году. В конце июня имперский министр боеприпасов и вооружения Шпеер составил памятную записку, которую он направил Гитлеру. В ней, в частности, говорилось: «[…] противнику удалось в результате [воздушных налетов] увеличить потери авиационного бензина на 90 %». Если такие налеты продолжатся в сентябре, «удовлетворение самых срочных потребностей вермахта в необходимых количествах обеспечить уже не представится возможным, ибо с этого момента возникнет непредвиденная брешь», которая будет иметь «трагические последствия»! Через восемь недель Шпеер писал: «[…] если налеты на предприятия химической промышленности продолжатся и в сентябре с такой же силой и с той же точностью, как в августе, производство химической продукции упадет и все ее последние складские запасы будут исчерпаны. Таким образом, будут отсутствовать именно те материалы, которые необходимы для дальнейшего ведения современной войны». После войны Шпеер дополнил эти данные, указав, что все экономические усилия, предпринимавшиеся примерно с 1943 года, оказались безрезультатными, поскольку соединения союзнической бомбардировочной авиации с мая 1944 года перенесли центр тяжести на уничтожение германских запасов горючего, а с сентября — на разрушение германской транспортной системы. «Это привело к катастрофе. С этого момента мы лишились 90 % горючего. Успех этих налетов был равнозначен проигрышу войны в производственнотехническом отношении, ибо без горючего не помогут никакие новые танки и реактивные самолеты».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу