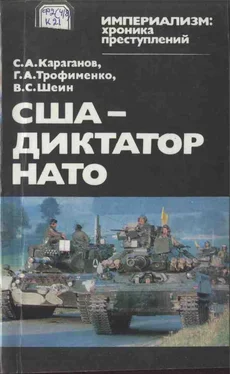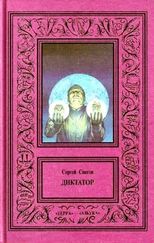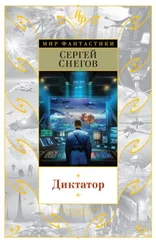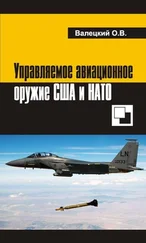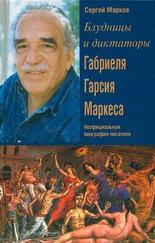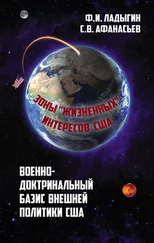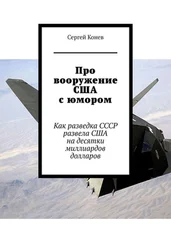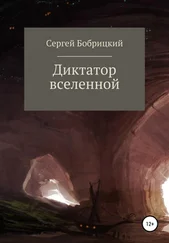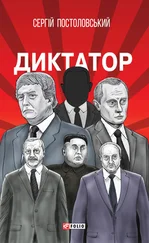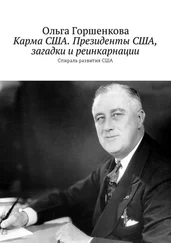Но когда в марте Иглбергер поехал в Европу, правые приставили к нему заместителя директора АКВР Майкла Пиллсбери, деятеля, настроенного более воинственно, чем даже его босс Ростоу. Задача Пиллсбери заключалась в том, чтобы «удержать более чем консервативного Иглбергера от того, чтобы он «продал Америку», конкретно — согласился на скорое возобновление переговоров», — писал известный американский журналист и специалист по ограничению вооружений Строуб Тэлбот.
С трибуны XXVI съезда КПСС Советский Союз предложил прекратить размещение новых и замену имеющихся в Европе ракетно-ядерных средств средней дальности, принадлежащих СССР и странам НАТО. Поскольку срок размещения американских ракет наступал через два года, а советские ракеты уже развертывались, предлагалась по сути дела мера односторонней сдержанности. Она была отвергнута НАТО. Американская администрация не пожелала расчищать дорогу для переговоров и облегчать достижение соглашения в случае их начала. Но давление на Вашингтон возрастало.
Из западноевропейских столиц поступали тревожные сигналы. Вот как описывал ситуацию, сложившуюся в первой половине 1981 года, известный американский специалист-международник Ричард Барнет: «К 1981 году все политики в Западной Европе были обеспокоены движением за мир. Еще до того, как Рейган вступил в должность, осенью 1980 года 250 тысяч человек провели демонстрацию в Бонне, протестуя против решения о размещении крылатых ракет и «Першингов-2» в Западной Европе. (Почти одновременно 200 тысяч человек вышло на улицы Флоренции, 150 тысяч — Лондона. — Авт .) В начале правления Рейгана вашингтонские чиновники отмахивались от этого движения как от собрания «вечно недовольных», подкупленных и оплачиваемых Москвой. Но политики в ФРГ, Голландии, Бельгии, Великобритании, Италии знали правду. Среди народов Западной Европы широко распространился и возрастал страх перед войной. США, а не СССР, представлялись теперь главной угрозой миру». И это несмотря на интенсификацию натовской пропаганды, пытавшейся доказать обратное.
Но правые не хотели уступать даже в мелочах. «Союз (НАТО. — Авт .) хочет или по крайней мере нуждается не в компромиссах, а в лидерстве», — заявлял министр обороны К. Уайнбергер. Мнения союзников по поводу того, в чем они нуждаются, и не спрашивали. Пентагон требовал дальнейшего «изучения проблемы», чтобы откладывать начало переговоров как можно дольше. Другой целью было «выдержать» союзников, чтобы сделать их более податливыми. И этой цели Вашингтон добился. Когда государственный секретарь США Хейг, получив, наконец, разрешение от Рейгана, объявил в мае 1981 года, что к концу года США могут начать переговоры, западноевропейские лидеры горячо благодарили Вашингтон за то, что он согласился выполнить обязательство, принятое им в коммюнике декабрьской (1979 г.) сессии Совета НАТО.
Между тем в бюрократических коридорах Вашингтона затевалась новая схватка, на этот раз по поводу американской позиции на будущих переговорах. Одни хотели выдвинуть предложение, которое, будучи неприемлемым для СССР, могло бы показаться конструктивным правительствам Западной Европы. Другие стояли за то, чтобы главным критерием была максимальная неприемлемость предложения для СССР и одновременно максимальная эффективность, с точки зрения обмана общественного мнения. Берт сформулировал цели переговоров предельно четко и цинично. «Смысл всего этого упражнения, — заявил он в выступлении перед сотрудниками госдепартамента, — получение максимальных политических выгод., Мы занимаемся не ограничением вооружений, а управлением «союзом» (атлантическим. — Авт .).
Несмотря на общность целей, межбюрократические схватки приобретали подчас ожесточенный характер. Госдепартамент настаивал на американской позиции, напоминавшей ту, которая позже стала именоваться «промежуточным вариантом»: США размещают не все 572 ракеты, а СССР сокращает свои ракеты до уровня американских.
США должны были, таким образом, вооружаться и размещать ракеты, дестабилизируя европейскую обстановку и подрывая существующее соотношение сил, а Москва должна была не только дать свое «добро» на все это, но и разоружиться, еще более смещая баланс в пользу США. Американские средства передового базирования — самолеты — носители оружия средней дальности F-III, F-4, А-6 и А-7 (всего более 650 единиц), а также 64 английские ракеты «Поларис А-3» в расчет не брались. Между тем их дальность действия (от 1000 до 4500 километров) позволяет им достигать объектов на территории СССР вплоть до Урала. На этих средствах в полной готовности находится 3000 ядерных зарядов, способных поражать цели на территории СССР и его союзников.
Читать дальше