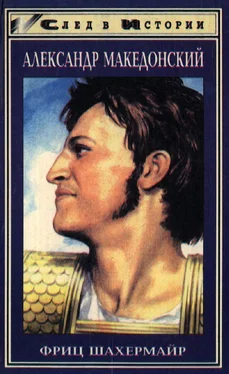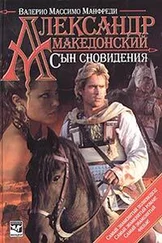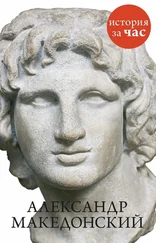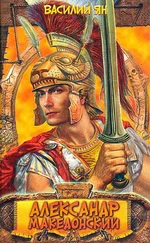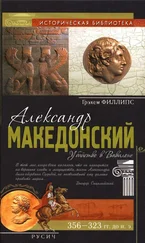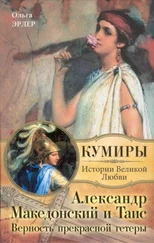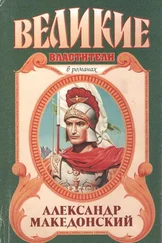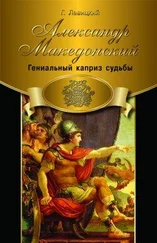В литературе многократно опровергалось мнение, что все эти уступки диктовались политическими соображениями. Мы считаем, что умалять роль политики в данном случае неправомерно. Конечно, Афины оказали бы сопротивление даже божественному Александру, если бы он настаивал на своем требовании отдать Самос. Однако это вовсе не означало, что обожествление выпадало из политической сферы; это лишь указывало на известные границы действий даже обожествляемой личности. Причем эти действия следует обратить на добро, пользу, разум, спасение людей и помощь им. До тех пор, пока царь вершит свои дела, основываясь на этих принципах, он может не считаться с формальностями, может, как deus ex machina [363] Драматургический прием, применявшийся иногда в античной трагедии: запутанная интрига получала неожиданное разрешение во вмешательстве игравшего божество актера, который посредством механического приспособления появлялся среди действующих лиц.
, вмешиваться, не спрашивая никого и не сообразуясь ни с чем, во все дела, включая и политические. И все благодарны ему как богу-спасителю. Однако в тех случаях, когда обожествляемая личность начинает требовать неразумного, бесполезного и невозможного, ее сверхчеловеческие права теряют свою силу. И тогда можно спорить с ней и противиться ей, как любому другому смертному (и бессмертному). Таковы были представления эллинов, и поэтому они без раздумий согласились на апофеоз. Политические вопросы входили в сферу действий обожествляемой личности, но reservatio mentalis [364] «Мысленная оговорка», не высказываемое открыто условие, ограничивающее или вовсе уничтожающее значение даваемого обещания, обязательства и т. п.
была при этом чем-то само собой разумеющимся для грека IV в. до н. э.
Весной 323 г. до н. э. к Александру прибыли послы, чтобы приветствовать его как нового бога. Они явились как посланцы отдельных государств, а не Союза, и это больше, чем что бы то ни было, доказывает постепенное разрушение единства Союза. Но желание царя было исполнено, и подготовленная им почва принесла свои плоды. Такой авторитет, как Эдуард Мейер, замечает по этому поводу: «Причисление Александра к греческим государственным богам не означало, правда, подчинения Греции Македонскому царству, но, несомненно, влекло за собой ее включение в мировую империю» [365] Ed. Meyer. Kleine Schriften. Halle, 1910, c. 331.
. Однако нам не следует забывать ограничение, о котором говорилось выше! Авторитет Александра стал теперь сверхъестественным божественным законом, но только до тех пор, пока он был направлен на свершение добрых дел. А в остальном вопрос оставался открытым. Таким образом, по сути дела был сделан еще только один шаг. Постепенно пример греческих государств мог повлиять и на Македонию, вызвав там аналогичные перемены. Все это еще не вело к завоеванию абсолютного авторитета, но ведь даже олимпийцы в Греции не обладали им! Почему? Да потому, что здесь вообще не признавали ничего абсолютного, все подлежало критике. Даже богов можно било критиковать, а наука и философия прямо выражали сомнение в их существовании, и божеские почести могли дать царю не больше, чем они давали бессмертным. Тут могли быть любовь, преклонение, восторг, доверие, глубина и искренность чувства, но не безусловное, безоговорочное признание. Ведь даже греческий бог ничего не мог поделать с сомнениями, колебаниями, критикой отдельных верующих. Сколь отличен был от Греции Восток: там подобных проблем не существовало!
С помощью апофеоза Александр хотел добиться единения, взаимопонимания и смягчения душ. Но всегда оставалась область, где мягкие, добросердечные средства были неприменимы. Здесь благодатному и доброму богу следовало бы попросту отступить и отказаться от своих намерение. Однако этого, по-видимому, Александр не понимал. Там, где не действовали божественная доброта и милосердие, он употреблял насилие.
Таким образом, от эллинской свободы к новой автократии были проложены как бы временные мостики. Возможно, впоследствии эти мостики и превратились бы в широкий мост, но, даже если бы это произошло, мост остался бы мостом над пропастью.
ВЕЛИКАЯ ИМПЕРИЯ
Весной 331 г. до н. э. Александр покинул район Средиземноморья. В описании событий мы коснулись не только «первой империи» Александра, но и управления этой империей. С тех пор прошло восемь лет. И империя распространилась почти на всю «Азию». Как осуществлялось управление империей в новых условиях? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести краткий обзор главных принципов, легших в основу правления Александра в его последние годы. Часто мы не знаем, что он считал временным в своем правлении, а что — окончательным. Но основные черты управления несомненны, и они с предельной ясностью характеризуют как империю, так и самого Александра.
Читать дальше