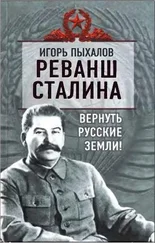«...Мефодий, воспроизводя перипетии диалогического процесса, почти без изменений переносит в свой текст из платоновского готовые словечки, словосочетания, выражения и формулы, идущие как строительный материал для выстраивания скреп и переходов между речами.
Такое инкорпорирование деталей старого художественного целого в состав нового встречается в самых различных областях позднеантичного и раннесредневекового творчества: так, поэзия знала практику так называемых центонов (centones) мозаик из стихов или полустиший старых поэтов, заново смонтированных для разработки какой-нибудь темы, о которой эти поэты и не думали, изобразительные искусства приучаются работать с разнообразными комбинациями простейших мотивов, а в архитектурные ансамбли христианских церквей входили колонны, извлеченные из развалин языческих храмов» [18] Аверинцев С. С. Литература//Культура Византии: IV первая половина VII в. М., 1984. С. 281.
.
Тот же принцип пронизывает и средневековую музыкальную культуру. Как отмечает Т. Ф. Владышевская, в теории латинского григорианского хорала
«...готовые мелодические формулы назывались центонами (от латинского centum сто, центами называли также мелкие монеты). Попевки, или центоны, соединялись последовательно, одна за другой в определенной последовательности, которая, впрочем, могла варьироваться в зависимости от текста и гласа песнопения» [19] Владышевская Т. Ф. Византийская музыкальная эстетика и ее влияние на певческую культуру Древней Руси//Византия и Русь. М., 1989. С. 153.
.
На этом же основано использование системы так называемых подлинников канонизированных образцов древнерусской иконописи…
По определению А. А. Гогешвили,
«...во всей древнерусской литературе, духовной и светской, неискушенному читателю прежде всего бросаются в глаза не жанровые различия, не черты пресловутого…исторического монументализма или…монументального историзма, а все то же качество центонности, компилятивности, сборности…Слово Даниила Заточника может служить классическим хрестоматийным примером применения центонного метода в творчестве древнерусских авторов. Фрагменты, цитаты и парафразы из Псалтири, Притчей Соломоновых, Деяний и Посланий Апостольских соседствуют с грубоватой житейской мудростью, с поговорками и присловьями явно скоморошеского репертуара. Подчас эти элементы даже не связаны сколько-нибудь различимой логикой повествования, каким-то подобием сюжета, напоминая разнокалиберные бусины, нанизанные на нить желания автора снова оказаться в милости у своего князя. Однако этого нельзя сказать в отношении формы и настроения памятника: несомненно если не стилистическое, то экспрессивное единство и цельность этого уникального по яркости характеристики личности автора и, в то же время, типичное для русской действительности всех времен сочетание в этой личности своеобразной гордости и самоуничижения, льстивых просьб о помощи и нагловатой претенциозности, практической беспомощности и преувеличенного представления о своих возможностях. <���…> Многочисленные переводные и самостоятельно перекомпонованные…Златоусты и…Пчелы…Луга духовные и…Измарагды…Торжественники и…Шестодневы…Физиологи и…Бестиарии с формальной точки зрения представляют по своему составу и композиции несомненно центонные компиляции, которые создавались по методу, определенному Даниилом Заточником:…Но быхъ аки пчела, падая по рознымь цветомъ, совокупляя медвеный соть; тако и азъ, по многимь книгамъ исъбирая сладость словесную и разумь, и съвокупихъ аки въ мехъ воды морскиа, хотя и не лишены были того или иного объединяющего тематического замысла».
И далее:
«...Поразительно это канонизированное мышление средневекового человека, даже конкретную, во многом специфическую ситуацию сводящего к библейскому прецеденту, описывающего…злобу дня в библейских оборотах, фразах и образах. Вот куда, а не к…феодальной действительности, восходит…этикетность стиля древнерусской письменности» [20] ГогешвилиА.А. Три источника Слова о полку Игореве: Исследование. М., 1999.
.
Другими словами, теория центона переносит акцент с формы на исходное содержание цитат, утраченный, но подразумеваемый контекст, из которого они вырваны. Новое же произведение, состоящее из центонов, больше напоминает не мозаику (как пишет С. С. Аверинцев и с которой Д. С. Лихачев сравнивает, скажем, летопись), а коллаж. Каждая составляющая его продолжает невидимо пребывать в прежнем знакомом читателю и узнаваемом им тексте и, одновременно, включается в новые семантические связи, образуя принципиально новый текст. Естественно, это не исключает присутствия в источнике того, что называется литературным этикетом. Но и он, как представляется, начинает выполнять еще одну указательную функцию. Помимо идеального обозначения того, к какому классу явлений общественной жизни относится описываемое явление (вспомним Д. С. Лихачева: этикет становится формой и существом идеализации), он еще и отсылает к текстам, в которых описывается существо и сущность происходящего. Этикетная формула становится знаком дорожного движения, помогая читателю ориентироваться не только в данном тексте, но и в том текстовом поле, которое его породило, окружает и, в значительной степени, раскрывает.
Читать дальше