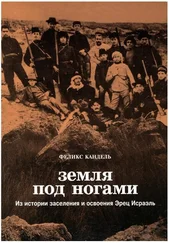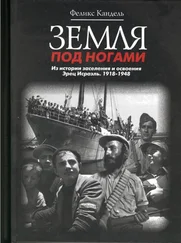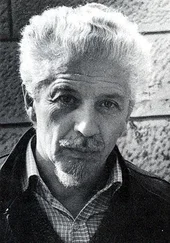Двадцать тысяч человек собралось на поминальную службу, синагога же вмещает не более тысячи шестисот. Остальные стояли на улице – служба транслировалась по радио. Движение транспорта в районе синагоги закрыли, дежурила конная милиция.
Передать, что творилось в синагоге, я не берусь. Не хватает слов. Женщины падали в обморок, бились в истерике, многих выносили на улицу, где поджидали машины скорой помощи. Да что женщины! Не выдерживали и мужчины. Рыдания заглушали службу.
Я закончил молитву почти без пения, задыхаясь от слез… Мы оплакивали не только своих близких. Мы оплакивали свой народ…"
В апреле 1946 года в московской синагоге повторили поминальную сужбу по евреям, погибшим в Катастрофе, но через год этого уже не произошло.
И далее, из воспоминаний М. Александровича: "В 1947 году представление отменили. Я получил письмо из Комитета по делам искусств, гласившее, что мне, заслуженному артисту РСФСР, негоже выступать в синагоге".
Катастрофа смела цивилизацию восточноевропейских евреев, которая существовала до этого сотни лет, сохраняла религию и традиции, образ жизни, будничные и праздничные одежды, блюда еврейской кухни, мелодии и легенды, а главное, сохраняла веру в духовные ценности, ту преемственность поколений, которая позволяла выживать в окружении враждебных порой властителей и недружелюбного окружения.
Циля Сегаль (из книги "Утерянные ключи"):
"Уходя из Витебска в ночь накануне падения города, папа взял с собой ключи от квартиры, в которой оставалось почти всё нажитое родителями немудреное добро… Эти ключи "провоевали" с отцом четыре года: уходя на фронт, он надеялся, что ему доведется освобождать Витебск… и сохраненным ключом он откроет дверь нашей квартиры…
Папе не повезло: не довелось освобождать родной город. Но повезло в главном: он вернулся с фронта. Вернулся и… привез с собой ключи… А летом 1947 года поехал в Витебск.
Город встретил его руинами. На месте нашего дома зияла большая воронка, в груду мертвых развалин превратился обжитой, дружелюбный двор. В немногих уцелевших домах были уже другие, незнакомые жители. Они ничего не знали о бывших хозяевах квартир. Знали только одно: евреев выгнали из домов и где-то за городом расстреляли…
Отец возвратился мрачный, какой-то опустошенный. Тяжело вздохнув, он горестно сказал: "Нет больше Витебска" и бросил ключи на стол. Потом они куда-то затерялись…"
***
Ир. Эренбург, журналистка (Одесса, март 1945 года):
"Веселое беспечное население недовольно приходом советских войск: при румынах была частная торговля, полно товаров, а какая мануфактура! Евреев они, правда, расстреляли, но сделали это под нажимом немца, а сами никому зла не делали. И за хлебом не надо было стоять в очередях…
Поместили меня в гостиницу "Красная". Вечером рассказ горничной: "Румыны изящные, чудесно одетые. Наши сразу переняли моду, завили надо лбом кудряшки. Румынки наших презирали, а их мужья жили с нашими девушками… Базар был замечательный, сидит баба, а рядом стопки яркого ситца по 60 марок. Такого мы не видели"…"
***
Нюма Анапольский, Украина (спасся во время расстрела, бежал из гетто, прятался в лесу, голодал, пережил зиму с сильными морозами):
"В феврале 1944 года местечко Корец было освобождено Красной армией. В неполных восемнадцать лет мы пошли на фронт. За долгие годы впервые получили возможность помыться в бане, надеть чистое солдатское белье, одежду, обувь. Стали есть солдатскую кашу с солью и хлебом, вкус которых мы уже забыли, пили сладкий чай и, конечно, наибольшей радостью было то, что нам дали в руки автомат и повели в бой.
Минуты первого боя для меня и моих друзей стали незабываемыми – до этого мы были беспомощными, гонимыми мальчишками, а теперь настал тот счастливый момент, когда я смог выпустить первую автоматную очередь по своим мучителям, заявить о своей непокоренности…"
***
Яков Хейфец, Витебская область: "Я перешел линию фронта, был проверен в двух спецлагерях и вернулся в действующую армию (автоматчик-десантник). Приходилось брать в плен фашистов и на Украине, и в Белоруссии, в Латвии, Литве, но я не расстрелял ни одного. И это после всего пережитого…"
***
Феодосия, Крым (после освобождения):
"В дощатом мезонине во дворе гестапо лежала груда одежды… В кармане детского пальтишка я нашел свернутую в трубочку общую тетрадь, на каждой странице которой наклеены почтовые марки. Это была, очевидно, самая необходимая вещь, которую захватил с собой отправлявшийся "на переселение" неизвестный еврейский мальчик.
Читать дальше
![Феликс Кандель Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.) обложка книги](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-cover.webp)





![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 4] (Уничтожение еврейского населения, 1941 – 1945)](/books/184718/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)