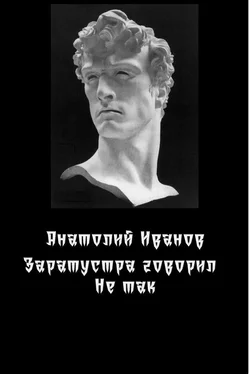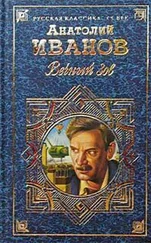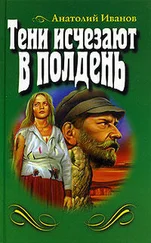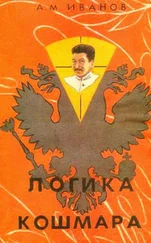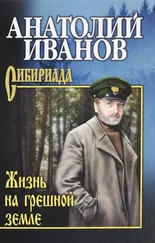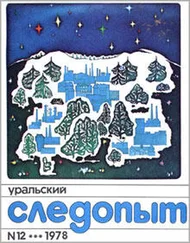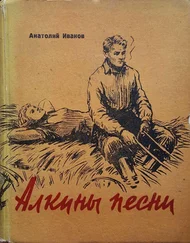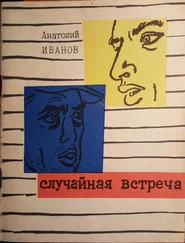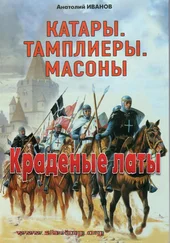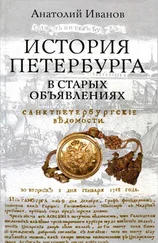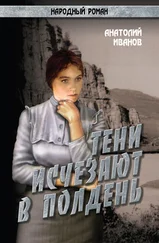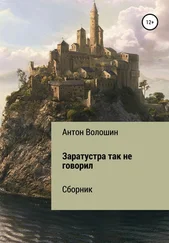А вот мнение нашего знаменитого современника, Дж.Неру: «Греки, как народ, возможно, больше жили настоящим и находили радость и гармонию в красоте, которую они видели вокруг себя или создавали сами». Неру считал, и был прав, что «по своему духу и мировоззрению Индия гораздо ближе к древней Греции, чем современные нации Европы», потому что «древние индусы, подобно грекам, любили красоту и жизнь», а современная Индия сохранила эти древнеарийские традиции, и главное, добавлю от себя, потому что она убереглась от христианской заразы.
Итак, мир прекрасной гармонии? Не слишком ли идеалистический образ для общества рабов и рабовладельцев? Совершенно верно, идеализация здесь налицо, но и самый образ неполон. Под гармонией таилась мрачная бездна. Есть древнее сказание, как царь Мидас поймал в лесу Силена, спутника Диониса, и долго добивался от него, что всего лучше и желательнее для людей? Силен упорно не хотел говорить, но потом ответил: «Жалкий эфемерный род, дитя случая и бедствий, зачем принуждаешь ты меня открыть тебе то, что было бы лучше для тебя никогда не знать? Самое лучшее не достижимо для тебя: это – не родиться, не существовать, быть ничем. Затем, второе наилучшее для тебя – это скорее умереть». Единичный миф? Нет. В драме Софокла «Эдип в Колоне» хор поет то же самое: «Вовсе не родиться – самое лучшее для человека, а если родился – поскорее умереть». Ту же мысль мы находим и у Эврипида. Получается уже прямо лейтмотив.
Эту двойственность сознания древних греков хорошо понял и показал Ф.Ницше. По его словам, «грек знал и чувствовал тоску и ужас существования: чтобы быть в состоянии жить, ему надо было защитить себя ослепительным блеском... олимпийской грезы» [Ф.Ницше. Происхождение трагедии или эллинизм и пессимизм. М., 1902, стр.33.]. Тема неумолимой судьбы, властвующей не только над людьми, но даже над богами, непрерывно звучит в греческих мифах, в эпосе, у классиков греческой литературы.
Греки не питали никаких иллюзий относительно благости божественного управления миром [И.М.Тронский. История античной литературы. Л., 1957, стр.57.]. В знаменитой легенде о поликратовом перстне, изложенной у Геродота (III, 40-43) и широко известной по стихам Ф.Шиллера и В.А.Жуковского, проводится мысль о зависти богов счастью смертных и о расплате за это счастье. Из крушения персидской империи философ Деметрий Фалерский сделал вывод: «Поистине непостоянна наша судьба. Все устраивает она вопреки ожиданию человека и являет свое могущество в чудесном. И теперь, как мне кажется, она лишь затем передала македонянам счастье персов, чтобы показать, что и последним она дала все эти блага лишь во временное пользование, пока пожелает распорядиться ими иначе» [В.С.Сергеев. цит.соч. стр. 391.].
Все знают и цитируют краденую мудрость прожженного жулика лжеапостола Павла о немудром мира сего, которое господь избрал, чтобы посрамить мудрое, дабы ни одна плоть не хвалилась перед господом, но ведь Деметрий Фалерский очень хорошо показал за 300 лет до Павла ту же закономерность истории на ярком примере, когда «от персов, которым был подвластен почти весь мир, осталось одно имя, а македоняне, которых раньше едва ли кто знал даже имя, стали владычествовать над миром». Так давайте утвердим приоритет Деметрия Фалерского и установим правило: прежде чем процитировать еврея, поищи, у какого арийца еврей эту мысль украл.
Не ждали греки вознаграждения за земные страдания и в загробной жизни, которая казалась им не жизнью, а каким-то унылым неполноценным существованием. В XI песни «Одиссеи» тень Ахиллеса жалуется Одиссею:
Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать, мертвый.
Итак, с одной стороны – олимпийские боги, боги для счастливых, как их не без основания называют христиане (а много ли было счастливых в рабовладельческом мире?), а с другой – полная безысходность?
Отнюдь нет. Такое представление о религии античных греков будет поверхностным. У этой религии была вторая сторона, недостаточно изученная до сих пор.
«Религиозное развитие греческого общества, – говорит итальянский коммунист А.Донини, – характеризуется дуализмом культов «олимпийских» и «народных» богов» [А.Донини. Люди, идолы и боги. М., 1962, стр.127.]. Народными были хтонические боги – Деметра, богиня растительности, и Дионис, бог вина и виноделия. Этих богов выдвигал против олимпийских богов аристократии правивший в Афинах, опираясь на народные массы, тиран Писистрат (560-527 г. до н.э.), построивший храм Деметры в Элевсине и учредивший всенародные празднества Дионисия [В.С.Сергеев, цит.соч., стр.176.], а также тираны других городов – Периандр в Коринфе и Клисфен в Сикионе. Эти культы вносили в верования греков новые элементы. Например, в элевсинском культе мы находим совершенно необычную для греческой религии идею – веру в блаженство за гробом [С.А.Токарев, цит.соч., стр.465.]. Высокомерный итальянский барон Ю. Эвола смотрел на народную религию, разумеется, презрительно, сверху вниз. Он везде находил мифологический фон, сводившийся к «дуализму светлых, небесных божеств политического и героического мира и женских, материнских божеств «естественного» существования, любезных, прежде всего, плебейским слоям». «Символический культ мужественных небесных божеств света и высшего мира» он противопоставлял «темному царству Матерей и хтонических божеств» [J. Evola. Les homes au milien des ruines. Paris, 1984, p. 34-35.]
Читать дальше