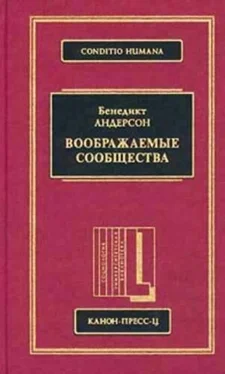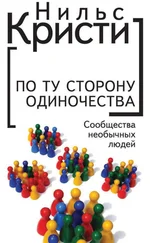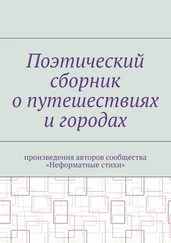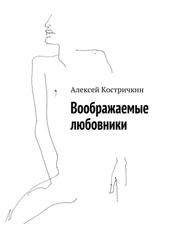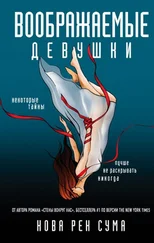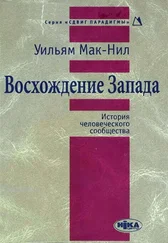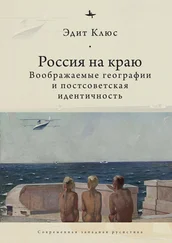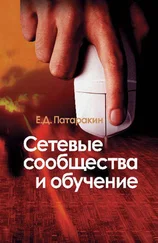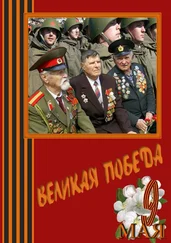В этом отношении креольские национализмы обеих Америк особенно для нас поучительны. Ибо, с одной стороны, американские государства были на протяжении многих десятилетий слабы, всерьез децентрализованы и весьма скромны в своих просветительских амбициях. С другой стороны, американские общества, в которых «белые» поселенцы оказались противопоставлены «черным» рабам и наполовину истребленным «туземцам», страдали от такого внутреннего раскола, какой Европе и не снился. Тем не менее, воображение этого братства, без которого не может родиться и подтверждение братоубийства, проявляется довольно рано, причем не без курьезной аутентичной массовости. На примере Соединенных Штатов Америки этот парадокс особенно хорошо виден.
В 1840 г., в разгар жестокой восьмилетней войны с семинолами во Флориде (и в то самое время, когда Мишле вызывал из прошлого своего Эдипа), Джеймс Фенимор Купер опубликовал повесть « Следопыт», четвертый из пяти необычайно популярных рассказов о Кожаном Чулке. В центре этого произведения (и всех других, кроме первого) находится, по выражению Лесли Фидлера, «суровая, внешне почти никак не проявляющаяся, но несомненная любовь» между «белым» лесным человеком Натти Бампо и благородным делаварским вождем Чингачгуком («Чикаго»!) [457]. Вместе с тем, ренановским антуражем их кровного братства являются не кровавые 30-е годы XIX века, а последние забываемые/вспоминаемые годы британского имперского правления. Оба изображаются «американцами», ведущими борьбу за выживание — с французами, их «туземными» союзниками («чёртовыми минго») и коварными агентами Георга III.
Когда в 1851 г. Герман Мелвилл изобразил Измаила и Квикега уютно расположившимися в одной кровати в гостинице «Китовый фонтан» («Так мы и лежали с Квикегом в медовый месяц наших душ — уютная, любящая чета»), благородный полинезийский дикарь был иронично американизирован следующим образом:
«… несомненно, с точки зрения френолога, у него был великолепный череп. Может показаться смешным, но мне его голова напомнила голову генерала Вашингтона с известного бюста. У Квикега был тот же удлиненный, правильный, постепенно отступающий склон над бровями, которые точно так же выдавались вперед, словно два длинных густо заросших лесистых мыса. Квикег представлял собой каннибальский вариант Джорджа Вашингтона» [458].
Осталось лишь Марку Твену в 1881 г., когда «гражданская война» и Прокламация Линкольна об освобождении негров-рабов остались далеко позади, создать первый неизгладимый образ черного и белого как американских «братьев»: Джима и Гека, дружно плывущих по течению широкой реки Миссисипи [459]. Но все это происходит на фоне вспоминаемого/забываемого довоенного времени, в котором черный все еще раб.
Эти поразительные образы братства XIX столетия, «естественным образом» возникающие в обществе, раздираемом предельно жестокими расовыми, классовыми и региональными антагонизмами, столь же ясно, как и все другое, показывают, что в век Мишле и Ренана национализм репрезентировал новую форму сознания: сознание, родившееся в то время, когда нацию уже невозможно было пережить как нечто новое, т. е. тогда, когда волна разрыва с прошлым достигла наивысшей точки.
Все глубинные изменения в сознании в силу самой своей природы несут с собой и характерные амнезии. А из таких забвений в особых исторических обстоятельствах рождаются нарративы. Пережив физиологические и эмоциональные изменения, вызванные процессом полового созревания, невозможно «помнить» сознание времен детства. Как много тысяч дней, прошедших от младенчества до наступления зрелости, уходят за пределы прямо-|го воспоминания! Как странно нуждаться в помощи другого, чтобы узнать, что этот голенький карапуз на пожелтевшей фотографии, счастливо развалившийся на пледе или в детской кроватке, и есть ты сам. Фотография, славное дитя эпохи механического воспроизводства, — всего лишь самое категоричное в огромном современном скоплении документальных свидетельств (свидетельств о рождении, дневников, табелей успеваемости, писем, медицинских карт и т. д.), которое одновременно регистрирует некоторую кажущуюся непрерывность и подчеркивает ее выпадение из памяти. Из этого отчуждения от прошлого рождается представление об индивидуальности, идентичности (да, ты и этот голый младенец идентичны), о которой, поскольку о ней нельзя «помнить», необходимо рассказывать. Несмотря на доказательство биологией того, что за семь лет каждая клетка человеческого тела обновляется, автобиографические и биографические повествования из года в год наводняют рынки печатного капитализма.
Читать дальше