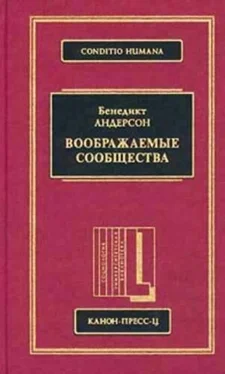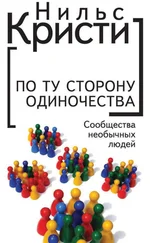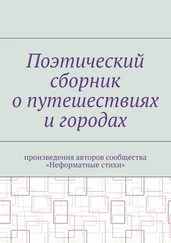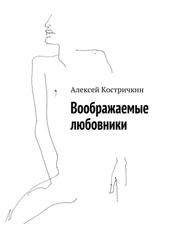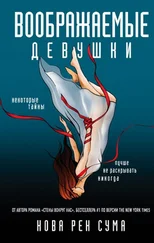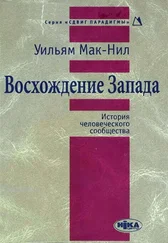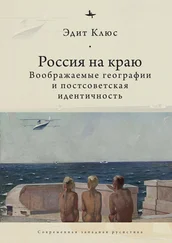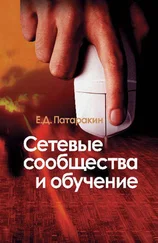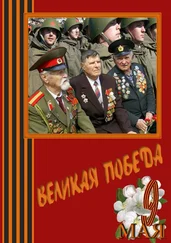Третьим фактором было медленное, географически неравномерное распространение специфических родных языков как инструментов административной централизации, используемых некоторыми занимавшими прочное положение монархами, претендовавшими на абсолютность своей власти. Здесь полезно вспомнить, что универсальность латыни в средневековой Западной Европе никогда не соотносилась с универсальной политической системой.
Поучителен контраст с императорским Китаем, где границы мандаринской бюрократии и сферы распространения рисованных иероглифов в значительной степени совпадали. Таким образом, политическая фрагментация Западной Европы после крушения Западной Римской империи означала, что ни один суверен не мог монополизировать латынь и сделать ее своим-и-только-своим государственным языком; а стало быть, религиозный авторитет латыни никогда не имел подлинного политического аналога.
Рождение административных родных языков опередило по времени как печать, так и религиозный переворот XVI столетия, и, следовательно, его необходимо рассматривать (по крайней мере предварительно) как самостоятельный фактор эрозии сакрального воображаемого сообщества. В то же время ничто не указывает на то, что это ородноязычивание — там, где оно происходило, — опиралось на какие-либо идеологические, хотя бы всего лишь протонациональные, импульсы. В этой связи особенно показателен случай «Англии», находившейся на северо-западной окраине латинской Европы. До норманнского завоевания литературным и административным языком королевского двора был англосаксонский. В последующие полтора столетия фактически все королевские документы составлялись на латыни. В период с 1200 до 1350 гг. эта государственная латынь уступила место норманнскому французскому. Тем временем из медленного сплавления этого языка иноземного правящего класса с англосаксонским языком подвластного населения родился староанглийский язык. Это сплавление позволило новому языку после 1362 г. занять, в свою очередь, место юридического языка, а также сделало возможным открытие парламента. В 1382 г. последовала рукописная Библия Уиклифа на родном языке [111] Seton-Watson, Nations and States, p. 28–29; Bloch, Feudal Society, Vol. I, p. 75 (см.: M. Блок, Апология истории. M.: Наука, 1986, с. 138).
. Важно иметь в виду, что это была последовательность «государственных», а не «национальных» языков, и что государство, о котором идет речь, охватывало в разное время не только нынешние Англию и Уэльс, но и части Ирландии, Шотландии и Франции. Разумеется, широкие массы подданных этого государства либо знали плохо, либо вообще не знали ни латинский язык, ни норманнский французский, ни староанглийский [112] Не следует думать, будто административная родноязычная унификация достигалась сразу и полностью. Не похоже, чтобы в Гюйенне, управляемом из Лондона, управление вообще когда-либо велось на староанглийском.
. Прошло почти столетие после политического воцарения староанглийского языка, прежде чем власти Лондона наконец-то избавились от «Франции».
На берегах Сены шло аналогичное движение, хотя не так быстро. Как иронично пишет Блок, «французский язык, который, слывя просто-напросто испорченной латынью, лишь через несколько веков был возведен в ранг литературного языка» [113] Bloch, Feudal Society, Vol. I, p. 98. (Цит. в пер. E. M. Лысенко по изданию: М. Блок, Апология истории, М., 1986, с. 160.)
, стал официальным языком судов лишь в 1539 г., когда Франциск I издал эдикт Виллер-Котре [114] Seton-Watson, Nations and States, p. 48.
. В других династических государствах латынь сохранилась гораздо дольше: при Габсбургах ею пользовались еще в XIX в. В третьих возобладали «иностранные» языки: в XVIII в. языками Дома Романовых были французский и немецкий [115] Ibid., p. 83.
.
В любом случае «выбор» языка производит впечатление постепенного, неосознаваемого, прагматичного, если не сказать случайного процесса. И будучи таковым, он разительно отличался от сознательной языковой политики, проводимой монархами XIX в. перед лицом нарастания агрессивных народных языковых национализмов. (См. ниже главу 6.) Одним из явных признаков этого отличия служит то, что старые административные языки были именно административными: языки, используемые чиновничеством и для чиновничества ради его собственного внутреннего удобства. Не было и мысли о систематическом насаждении этого языка разным населениям, находившимся под властью монархов [116] Приятное подтверждение этого положения дается Франциском I, который, как мы увидели, в 1535 г. запретил вообще печатать книги, а четыре года спустя сделал французский язык языком своих судов!
. Тем не менее возведение этих родных языков в статус языков-власти, где они в некотором смысле конкурировали с латынью (французский в Париже, [старо]английский в Лондоне), внесло свой вклад в упадок воображаемого сообщества христианского мира.
Читать дальше