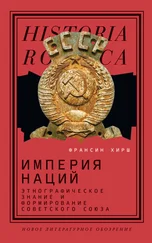До публикации новейшей статьи Дариуса Сталюнаса массовые обращения 1860-х годов в Северо-Западном крае фактически не становились предметом специального исторического анализа. Сталюнас изучил административный механизм обращений, описал способы их официальной репрезентации как добровольного «возвращения в веру предков», коснулся вопроса о соотношении методов поощрения и принуждения в организации переходов в православие. Он заключил, что в организации обращений бюрократы руководствовались ассимиляторскими устремлениями и определением русскости через православие: новый конфессиональный статус был призван устранить угрозу полонизации, нависшую, как считалось, над католиками-белорусами [501]. В противоположность белорусским крестьянам переходившие в православие отдельные поляки не вызывали у русификаторов большого доверия, тогда как литовцы — в подавляющем большинстве, подобно белорусам, крестьяне — виделись слишком уж «фанатично» преданными католицизму, чтобы пробовать увлечь их в православие. Таким образом, по своей нацеленности на консолидацию русской национальной идентичности (белорусы как ветвь русского народа) обращения католиков в Северо-Западном крае могут быть сопоставлены с «воссоединением» униатов в тех же губерниях в 1839 году, осуществленным немиссионерским путем.
Настоящая статья рассматривает ту же кампанию в ином ракурсе. Я предлагаю принять во внимание тот факт, что для виленских «обратителей» католицизм нес опасность не только в связи с польским национализмом, но и сам по себе — не в теологическом или мировоззренческом смысле, а в качестве комплекса практик, эмоций и символов, объединявших значительное по численности сообщество. Статья развивает уже аргументировавшийся мною в других работах [502]тезис о том, что католическая религиозность в восточных землях бывшей Речи Посполитой явилась вызовом административному потенциалу «конфессионального государства» [503]. То, что русификаторы в Вильне клеймили как «фанатизм», находило аналог в других католических сообществах тогдашней Европы, где с 1830-х годов формировался новый тип «народного католицизма», внутри которого церковный канон и пастырский авторитет сочетались с поощрением религиозных представлений и вкусов, близких социальным низам [504]. По-новому культивировавшаяся зрелищность и чувственность католического богослужения и обрядности, неожиданная для многих современников реабилитация истовой набожности и благочестия, массовость религиозных практик, новые способы коллективного переживания эмоций и обновленные формы конфессиональной самоорганизации [505]— все это ставило под сомнение как доступность католицизма государственному регулированию, так и эффективность использования католических клириков в роли посредников между имперскими институтами и рядовыми верующими. Не признавая за католическим простонародьем в белорусских губерниях осмысленного усвоения вероучения, бюрократы тем не менее испытывали тревогу по поводу эмоциональной и эстетической притягательности католической службы как для этого населения, так и — о чем говорилось только вполголоса — для номинально православных.
Поэтому, прослеживая динамику политики обращений, я особо обращаю внимание на вклад в нее администраторов среднего и низового звеньев, вплотную занимавшихся надзором за отправлением католического культа. Непосредственные впечатления этих людей были одной из движущих сил кампании: именно натиск миссионерствующей власти придавал зримость свойствам католической религиозности, которые удивляли, раздражали и даже пугали представителей властей и таким образом влияли на их политическую линию. Я попытаюсь также доказать, что реакция новообращенных на принуждение, хотя и не приводила к легализации их отказа от православия, тем не менее подрывала монополию властей на суждение о результатах обращений, степени их успешности. Применение грубых приемов массового обращения резко снижало шансы на дальнейшее укоренение обращенных в новой вере. Но выявленные разногласия внутри бюрократии позволяют утверждать, что это происходило не только из-за отпора населения жесткой политике обращения. Секулярные эксперименты проводников этой политики могли казаться их же коллегам-бюрократам еще менее приемлемыми, чем неподконтрольность государству тех или иных манифестаций католической религиозности.
М. Н. Муравьев и «латинизанты»: «…Чешуя спала с наших глаз…»
Читать дальше