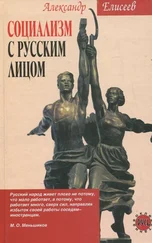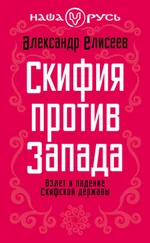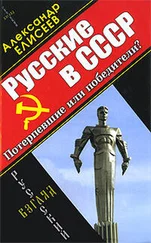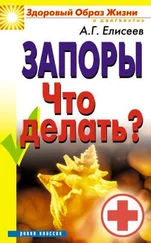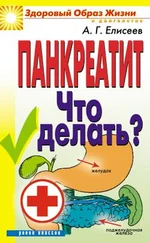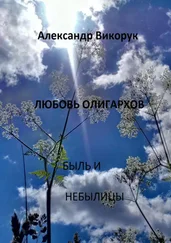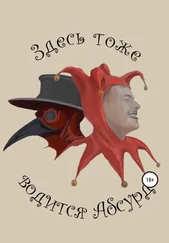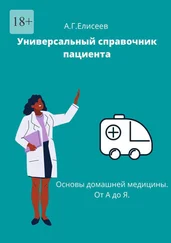Российское правительство, по мысли Восторгова, также идет путем постепенных преобразований, берущих начало в христианской традиции, но им могут помешать «необдуманные действия, социальные и религиозные потрясения». Кроме того, давать материальные блага людям, не развитым нравственно, бесполезно. Можно дать рабочему хоть десять зарплат, но если он привык к пьянству, это благодеяние не поможет ему.
И. Восторгов определял христианство как религию, полностью сохраняющую «внутренне», «духовное» измерение жизни и объяснял успехи христианской цивилизации именно этим. Касаясь идеализации ислама и язычества, уделяющих непомерное внимание социальной регламентации, он замечал: «… Не мусульманские, не языческие страны являются образованными и… развитыми, не к нам приходят от них миссионеры, ученые, руководители, а, наоборот, они получают их от христианских народов».
Прот. Н. Стеллецкий искал причины угнетения не в социально-экономической сфере, но в «историческом грехе природы человеческой». Пока она «не будет восстановлена, пока не восстановится в ней правильное отношение к ее собственному назначению и Богу, то есть пока не откроется для человека „новое небо и новая земля, в которых правда живет“ (2 Пет. 3, 13), — до тех пор, по учению слова Божия, будут в жизни людей указанные (социальные. — А. Е. ) противоречия».
Митрополит Владимир тоже обуславливал улучшение жизни низов с нравственным совершенствованием. Если хозяин-христианин «видит в лице работника своего брата, своего друга, так же, как и он, искупленного Спасителем», то он делает для него сверх обязанности по закону. Тогда хозяин-братолюб предоставляет ему хорошее помещение, призревает его детей, помогает ему в болезнях и смертных случаях, заботится о его религиозных и духовных потребностях.
Национал-консерваторы были безусловно правы, когда требовали уделять огромное, первенствующее внимание религиозно-этическому совершенствованию человека. (Любопытно, что и советский социализм также очень сильно — порой излишне — заботился о нравственном облике «трудящихся».) Но при этом они недооценивали значение общественных преобразований — разработанная социальная программа им нисколько не помешала бы. Она могла бы основываться на требовании создания действительно гарантированной, обязательной для государства системы защиты неимущих.
Но правые осторожничали. Они были категорически против решения социальных вопросов путем существенного перераспределения собственности. Естественно, особую тревогу вызывали эгалитарные проекты левых, предусматривающих ее полную экспроприацию, которая, по их мнению, грозит полной деградацией. Прот. И. Восторгов утверждал, что это будет означать «движение назад, к первобытной дикости».
Защищая неприкосновенность собственности, выступая против ее тотального обобществления, правые больше заботились не о поддержании экономической эффективности или защите юридических прав. Они думали о сохранении «цветущей сложности»— иерархии и многообразия традиционного общества. Экономический эгалитаризм страшил их растворением личности в пучине материальных процессов обобществления, подчиненных слепому господству экономических законов.
Прот. Восторгов сравнивал социалистическое сообщество с большой казармой, где «все уравняется, сотрутся всякие различия, все будет одинаково, и в этом насильственном уравнении погибнет свобода… погибнет жизнь, и счастье, и радость».
«В социализме, — писал А. Генц, — личность поглощается обществом: это и есть центральная идея социализма». Между тем, именно личность «есть корень и определяющее начало всех общественных отношений; не „общество“, а лица думают, работают, чувствуют, хотят, от них все исходит и к ним все возвращается…». По Генцу, равенство людей совершенно невозможно ввиду изначальной несхожести личных качеств, создающих разнообразие — важнейшее условие достижения «полноты жизни».
О безличностном характере социализма размышлял Л. А. Тихомиров. Его не устраивала марксистская философия, превращающая человека всего лишь в объект внешних, материальных влияний: «Сам по себе он (человек. — А£) — нуль. Что из него сделают внешние условия, то он и будет. Он до того нуль, даже и не может быт ответственным». Особенно возмущала Тихомирова марксистская формула, согласно которой социализм победит даже не благодаря собственной моральной правоте, а в результате дальнейшего развития бездушной экономики. Получалось, что материалистическое мировоззрение социализма убивает «не только религию, но и уважение к личности человека», и сам социализм есть «начало смерти».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу