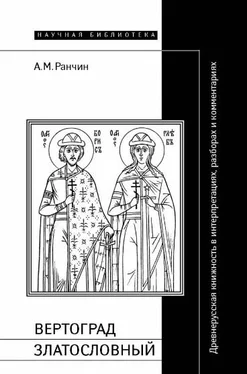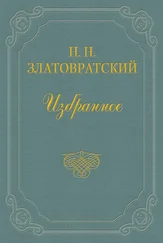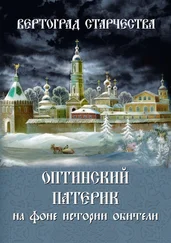К некоторым эпизодам Жития Феодосия , напротив, могут быть приведены дополнительные параллели, помимо указанных исследователями; в целом оно включает преимущественно не переклички с конкретными текстами, не заимствования в собственном смысле слова, но топосы, характерные для агиографии как «жанра». Так, мотив быстрого постижения грамоты сближает Феодосия не только с Евфимием Великим (ср. параллель в: [Абрамович 1902. С. 150], житие которого, как и Житие Саввы Освященного, составил Кирилл Скифопольский, но и, например, с Житием Иоанна Златоуста: «ти остръ умъ имыи отрок, въ мале годе и той (учение. — А.Р. ) извыче, бяше бо зело любя учение» [Житие Иоанна Златоуста 1899. Стлб. 901]. О возможное влиянии Жития Иоанна Златоуста на Житие Феодосия Печерского см.: [Siefkes 1970. S. 162].
Отличия описаний событий у Нестора от аналогичных фрагментов переводных греческих житий и патериков почти не привлекали внимания исследователей. Исключение — слово 39-е Синайского патерика о патриархе Феодоте и его клирике [Синайский патерик 1967. С. 76–77], внешне напоминающее известный эпизод с Феодосием, уступившим место в телеге вознице. И. П. Еремин указал на различное развертывание мотива «смирение иерарха перед слугою» в этих двух произведениях [Еремин 1961. С. 60–61].
Уместна в этом отношении аналогия с иконописью. Ср. тонкое замечание П. П. Муратова: «Чувство стиля в древнерусской живописи выражается преобладанием в ней элементов формальных над элементами содержания. Отношение старинного русского художника к своей теме часто кажется нам недостаточно индивидуализированным. На самом деле индивидуализация не исключена из возможностей этого искусства, но она проведена гораздо тоньше, чем в других искусствах, и потому часто ускользает от поверхностного внимания и неизощренного глаза. Русский художник вкладывал весь объем своей души в формальную трактовку темы, умея быть глубоко индивидуальным в своей композиции, в своем цвете, в своей линии» [Муратов 2005. С. 94].
В роли элементов, придающих тексту дополнительную упорядоченность и новые смыслы, могут выступать и библейские цитаты, выполняющие функцию «тематических ключей» («thematic clues»). Это понятие было впервые предложено Р. Пиккио: [Picchio 1977] (русский пер. О. Беловой в изд.: [Пиккио 2003. С. 431–473]).
Ср. определение цитаты в статье: [Минц 1973].
[Успенский сборник 1971. С. 88, л. 36г-37а]. Далее Житие Феодосия цитируется по списку в этом издании, страницы издания и листы рукописи указываются в тексте.
Кирилл Скифопольский называет Савву: «земный аггелъ и небесный человекь Савва» [Житие Саввы Освященного 1901. Стлб. 515].
Эта же агиографическая формула встречается в другом житийном тексте, созданном примерно в то же время, — в Сказании о Борисе и Глебе : «вы убо небесьная чловека еста, земльная ангела» [Жития 1916. С. 49–50].
Можно напомнить в этой связи предложение американского исследователя Н. Ингема использовать при анализе воздействия одних агиографических памятников на другие не слово «заимствование», а слово «преемственность» (continuity): [Ingham 1984. P. 31–5].
И. П. Смирнов отмечает: «<���…> средневековый канон предполагает непременную интертекстуальную связь произведений, подчиненных одной и той же сюжетно-семантической схеме, т. е. наличие текста-прецедента, к которому непосредственно или опосредованно восходят последующие сочинения, тогда как фольклорный канон опирается не на отдельно взятый текст-образец, но на саму абстрактную сюжетно-смысловую схему» [Смирнов 2000. С. 415, примеч. 345].
Г. П. Федотов подчеркнул отличие Феодосиева идеала общежительного монашества и заботы о христианизации «мира» от отшельничества и крайней аскезы Антония [Федотов 1990. С. 55, 57]. В. Н. Топоров предполагает, что уподобление Феодосия Антонию Великому как бы скрывает под собою другую параллель: «Антоний Печерский — Антоний Великий» [Топоров 1995. С. 799, примеч. 7]. Действительно, тяготевший к отшельничеству Антоний Печерский ближе к египетскому аскету, нежели приверженец общежительства Феодосий. Но для Нестора важно само указание на преемственность Феодосия — основателя русского монашества (по версии Жития) по отношению к прославленному святому, а не реальная близость Феодосиева идеала к монашеской практике Антония Великого.
Читать дальше