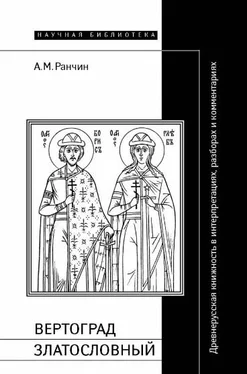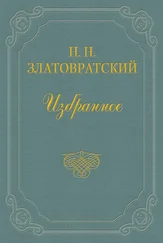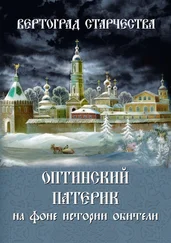«Памятник был составлен не ранее 1054 г. — поскольку князь Владимир назван в нем „праотцом“ и „прародителем“ ныне правящего князя, и не позднее конца 70-х гг. XII в. — поскольку читающаяся в нем похвала святому Клименту использована буквально в похвале князю Андрею Юрьевичу Боголюбскому в статье 6683 г. Лаврентьевской летописи» [Карпов 2001. С. 553, примеч. 14].
В Слове на обновление Десятинной церкви выстраивается преемственность «Рим — Корсунь — Киев», связанная с пребыванием Климента или его мощей: «отъ Рима убо въ Херсонь, от Херсоня въ нашю Рускую страну створи приити и Христосъ Богъ нашь, преизобильною милостию въ наше верныхъ спасение»; Климент «умножи своего Господина таланъ, не токмо въ Риме, но всему и въ Херсоне, еще и въ Рустемъ мире <���…>» [Слово на обновление 1992. С. 109]. См. об этом памятнике и его «римской» теме: [Гладкова 1996. С. 10–34].
См.: [ПСРЛ Ипатьевская 1998. Стлб. 241].
О сакральном смысле этого поставления и о византийских прецедентах см.: [Успенский 1998. С. 262–269 и примеч.]; здесь же — литература вопроса. При поставлении Климента Смолятича от мощей Климента Римского, по-видимому, «оказывался значимым не только сам факт поставления от мощей святого, но и личность этого святого», полагает Б. А. Успенский. «При этом существенно, что речь идет о папе римском, занимающем первое место в церковной иерархии. <���…> Будучи православным папой римским, св. Климент в принципе обладал теми же полномочиями, что и патриарх константинопольский („Нового Рима“), который ставил русского митрополита.
При этом св. Климент был особенно почитаемым святым на Руси (Это почитание нашло отражение в духовном стихе о Книге Голубиной <���…> [примеч. Б. А. Успенского. — А.Р.])\ культ св. Климента на Руси, как и в других славянских странах, обусловлен его связью с кирилло-мефодиевской традицией. Характерным образом на Руси Климент мог считаться вторым папой римским, т. е. непосредственным преемником апостола Петра» [Успенский 1998. С. 267–269]. См. также: [Уханова 2000].
Славянский текст жития опубликован в изд.: [Соболевский 1903. С. 1–16]; [Лавров 1911. С. 19–24; 121–125].
Климент именуется «источьник приснотекоущ» в Каноне на обретение мощей Климента Римского, атрибутируемом Е. М. Верещагиным Константину-Кириллу Философу; ср. там же: «ныне мощи твоя от ракы яко же истокъ всегда, преславьне, верныя напитающа» (текст по рукописи: РГАДА, ф. 381, ф. 381, № 98, л. 66, 67; цит. по кн.: [Верещагин 2001. С. 133, 144–145]). Конечно, этот метафорический образ — топос церковной книжности, но в контексте, связанном с Климентом Римским, он приобретает дополнительный смысл.
Ср. замечание А. В. Карташева, что Владимир взял «как трофей и как новинку для Киева, подобную Венецианской квадригу бронзовых коней и две языческих женских статуи» [Карташев 1991. С. 122].
Ср. замечание М. Б. Свердлова, сделанное уже после выхода в свет первоначального варианта этой статьи: «Подумал Владимир и о преображении Киева уже как христианского города, подобного византийскому. Поэтому он взял с собой также бронзовые статуи и коней <���…> (аналогичным образом поступили в 1204 г. венецианцы, которые привезли в свой город из захваченного крестоносцами Константинополя сохранившихся до сих пор коней)» [Свердлов 2003. С. 279].
Статуи коней в Константинополе, по-видимому, воспринимались как наделенные магической функцией. См. об этом: [Симеонова 1999. С. 59–60].
[Григорий Турский 1987. С. 50 (кн. II; 30–31)]. Ср. о французской легенде XIV в. о победе Хлодвига над Конфлатом и о крещении короля-победителя: [Блок 1998. С. 337–338].
П. М. Бицилли отметил, что летописное сказание о крещении Владимира «удивительно близко» именно к сказанию о крещении Хлодвига из сочинения Григория Турского и из Liber Histroriae Francorum. И в древнерусском, и в латинских текстах в отличие от версии обращения Константина Великого у Георгия Амартола крещение следует за победой, а не предшествует ей. По мнению исследователя, летописное сказание о крещении Владимира составлено по модели сказания о крещении франкского правителя; летописец был непосредственно знаком с каким-то из латинских памятников. (См.: [Бицилли 2006. С. 592–601]. Существование Корсунской легенды как исконно самостоятельного произведения П. М. Бицилли ставит под сомнение.
Сопоставление Истории франков Григория Турского и Повести временных лет см. также в статье: [Аверинцев 2005б].
Читать дальше