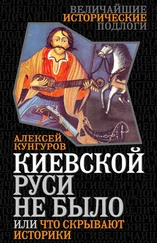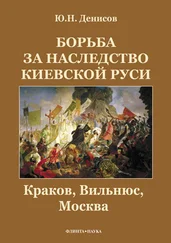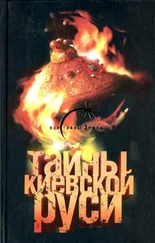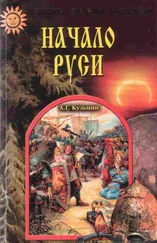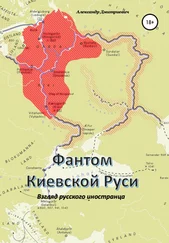В Чехии XI столетия еще продолжалась борьба между латинским и славянским богослужением. Центром славянского богослужения с 1033-го по 1097 год был Сазавский монастырь. Сношения его с Русью в это время явно носили двусторонний характер. Только осуществлялись эти сношения, по всей вероятности, не по государственной линии и тем более не путем сотрудничества русской митрополии с пражским архиепископством. Из Сазавского монастыря на Русь распространялся культ чешских святых Людмилы и Вацлава. Жития их использовались уже в «Сказании о Борисе и Глебе», в частности, в той редакции, которую можно связывать с Иаковом. В свою очередь, в Сазавском монастыре почитались русские святые, и в нем даже имелись их мощи, которые мог доставить все тот же Изяслав.
Давно замечено, что Сазавская хроника, упоминая о мощах русских святых, называет по имени Глеба, а Борис обозначен как «его товарищ». На Руси также братья долго как бы соперничали, пока не слились в общем культе. Владимир Мономах в «Поучении» называет одного Бориса. А. Н. Насонов высказал предположение, что сказанию Иакова предшествовал текст жития, сложившийся при Десятинной церкви. Дело в том, что в Иаковом сказании нет эпизода, связанного с посещением Глебом этого храма. Нестор же в Чтении о Борисе и Глебе отводит ему заметное место. Нестор вообще не был знаком с сочинением Иакова и иначе излагал события. Но у него, конечно, были источники, и упоминание Десятинной церкви, может быть, разъясняет, какие именно. В этой версии в момент кончины Владимира при нем оказывается Глеб. По сказанию же Иакова, Глеба в Киеве не было, и о кончине отца он не знал.
Подобным образом позднейший летописец приписал погребение Ярослава Мудрого одному из младших его сыновей — Всеволоду, тогда как на самом деле умерший был похоронен Изяславом. После смерти Ярослава принцип майората — права старшего — нарушался часто. Но нарушения такого рода приходилось как-то оправдывать, не стесняясь и подлогами. Самому Ярославу пришлось на 10–20 лет отодвинуть дату рождения (дабы сделать его старейшим), а Всеволод был представлен наследником по отеческому расположению. Примерно таким же образом кто-то возвышал Глеба. Иаков, как было сказано, пришел «с Льтеца», где, по преданию, был убит Борис. Позднее здесь будет находиться резиденция Мономаха, почему он и выдвигал на первый план Бориса.
Летопись включила текст сказания Иакова, а не, видимо, более ранний Десятинной церкви. Очевидно, это связано с обстоятельствами канонизации братьев, завершившейся перенесением их останков в построенную Изяславом церковь в Вышгороде. Любопытно, что до этого Борис помещался в деревянном саркофаге, а Глеб в каменном, то есть Глеба чтили больше, нежели его брата. На перенесении присутствовало все высшее духовенство, включая митрополита, и культ отныне приобретал официозное значение. Культ к тому же должен был символизировать, с одной стороны, единство братьев, а с другой — приоритет старейшего, каковым, судя по летописной статье 980 года, был Борис. Право старейшего будет усиленно подчеркивать и летописец, осуждая под 1073 годом Святослава за изгнание своего старшего брата.
Клирики Десятинной церкви противопоставляли Корсунь Византии не только потому, что эта греческая колония политически в данный момент тяготела к Руси. И само корсунское христианство не может быть отождествлено с константинопольским. Здесь пользовались иным летосчислением, что, так или иначе, означает и особое понимание всемирной истории. Здесь почитались «западные» святые Мартин и Климент, практически игнорируемые в Византии.
Сюда, на окраину, из века в век высылали поверженных политиков и еретиков, что со временем должно было породить, во-первых, широкую веротерпимость, во-вторых, сочувствие к жертвам произвола в метрополии.
Как специфику корсунского христианства В. Г. Брюсова оценила ветхозаветную тематику Софийского собора в Новгороде, куда некоторые корсунские традиции могли быть занесены с так называемым «корсунскими древностями». В данном случае не имеет особого значения конкретный источник: пришли ли эти традиции с Иоакимом-корсунянином или же оказались вывезенными во время похода Владимира Ярославича на греков в 1043 году. Важнее другое. Ветхозаветная тематика, выходя за рамки византийского канона, имела широкое хождение в Европе IX–X веков, причем обращение к ней вызывалось разными причинами. Она держалась обычно у тех церквей и течений в христианстве, которые сопротивлялись усилению иерархии как Константинополя, так и Рима. Так, подчеркнутое внимание к ветхозаветной тематике отличало ирландско-британскую церковь (о чем речь пойдет ниже). Подобные акценты можно обнаружить и в кирилло-мефодиевской традиции.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
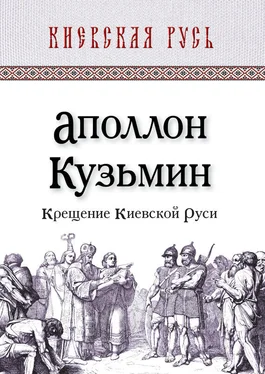
![Ал. Платонова - Над Днепровским курганами[повесть из жизни Киевской Руси]](/books/79007/al-platonova-nad-dneprovskim-kurganami-povest-iz-thumb.webp)