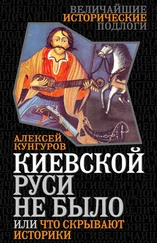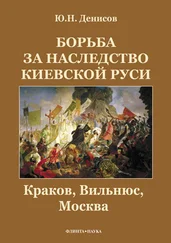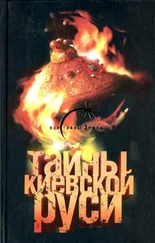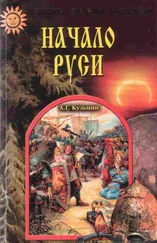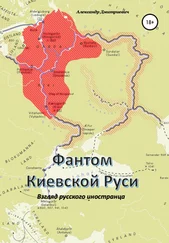Другое дело — Борис и Глеб. Это «заступники Русской земли», это чудотворцы, подающие исцеление. Написан же текст о варягах, крещении и убийстве Бориса и Глеба явно одной рукой, причем написан он так, что не столько погрязшие во мраке суеверий язычники, сколько завистливый дьявол повинен в разыгравшейся трагедии: «Не терпяшеть бо дьявол, власть имы надо всеми и сей (речь идет о пришедшем „из грек“ варяге) бяшеть ему аки терн в сердци, и тыцашеся потребити оканьный, и наусти люди».
Варяга Жьдьберна ни внелетописное «Слово», ни летопись не знает. Здесь корсунян предает поп Анастас. Логики, конечно, мало, особенно если учесть, что в этом варианте Корсунь осаждает еще князь-язычник, хотя и склоняющийся к крещению. Зато не может быть сомнения в том, что именно корсунянин Анастас был поставлен настоятелем Десятинной церкви, а заодно и хранителем княжеской казны. Видимо, какие-то услуги он Владимиру все-таки оказал. Ярослава же этот фаворит просветителя Руси не принял. В усобицу 1015–1019 годов он поддерживал Святополка против Ярослава, а затем ушел вместе с Болеславом в Польшу, прихватив с собой и казну. Казалось бы, летопись должна обрушить на перебежчика хотя бы частицу того гнева, который обрушивается в «Сказании о Борисе и Глебе» на Святополка. Ничего подобного, однако, нет. Анастас так и сходит с исторической арены как бы на вполне заслуженный покой и отдых. О самом Болеславе летописец также отзывается вполне уважительно, похоже, даже осуждая Святополка за распоряжение тайно избивать занявших Киев поляков и не выражая эмоций по поводу надругательства польского князя над сестрой Ярослава.
Следует иметь в виду, что полемика в рамках какой-то общепринятой идеологии редко выливается в прямое осуждение, обвинение в ереси и т. п. Чаще оппонента пытаются скомпрометировать косвенным образом, даже и не упоминая о действительной сути расхождений. После разрыва церквей в 1054 году митрополии, подчиненные Константинопольскому патриаршеству, должны были включиться в полемику. На Руси никакого энтузиазма в этом отношении не наблюдается. Но и сопротивление курсу Константинополя неизбежно выливается во множество оттенков.
Усобицы между Ярославичами, естественно, носили не только личный и даже, прежде всего, не личный характер. Князья, так или иначе (иногда и против своей воли), становились знаменами различных движений и течений. В 60–70-е годы XI века на противоположных позициях оказались Изяслав и Святослав. Позиция Святослава в 1076 году, как она представлена у Татищева, было неслучайной. Так же не случайно он оказывается центром притяжения в проваряжских текстах, сохранившихся в Печерском патерике. Первое изгнание Изяслава из Киева в 1068 году совершалось при активном участии Антония Печерского, а изгнанный вернувшимся в следующем году Изяславом Антоний нашел приют у Святослава в Чернигове, где он основал монастырь на Болдиных горах. В самом Печерском монастыре, судя по Несторову Житию, Феодосий склонялся к поддержке Изяслава. Он, правда, ничего не говорил при этом о каких-либо расхождениях в толковании Ветхого и Нового Заветов, а настаивал лишь на правах старейшего. Но ясно, что последователем византийской ортодоксии в монастыре был именно Антоний, а не Феодосий.
Изяслав склонялся к сохранению широких контактов с Западом, и прежде всего, «со славянскими странами, уже потому, что женат он был на польской княжне». Скитания по Европе после изгнания в 1073 году не оставляли выбора. В 1075 году он с сыном Ярополком побывал у папы Григория VII, добиваясь помощи, в частности, и против своих польских родичей, попросту его ограбивших. Папа содействие оказал, а князья обещали, в случае возвращения своих владений, передать «в лен св. Петру» (то есть Римской церкви) наследственные русские земли.
На Руси, наверное, знали об этих обещаниях, во всяком случае, могли знать. Но не видно, чтобы кто-то упрекал отца и сына в отступничестве от истинной веры. Напротив. Летописец Десятинной церкви их безудержно прославлял, усматривая в них образ истинного христианина. Да и, по существу, обращение к папе, по-видимому, воспринималось не так, как это должны были оценить в Византии. Примечателен один факт: будучи в Польше, Изяслав оставил покров (с именами Изяслав — Дмитрий) для гробницы св. Войтеха в Гнезно (собор был освящен в 1076 г.). Войтех — чешский святой, один из первых организаторов канонизации Людмилы и Вячеслава (Вацлава), приверженец славянского богослужения. Князь, следовательно, ведя переговоры с Римом, боролся именно за славянскую церковь и славянское богослужение.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
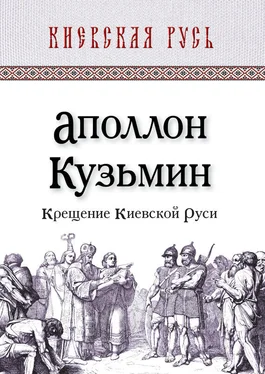
![Ал. Платонова - Над Днепровским курганами[повесть из жизни Киевской Руси]](/books/79007/al-platonova-nad-dneprovskim-kurganami-povest-iz-thumb.webp)