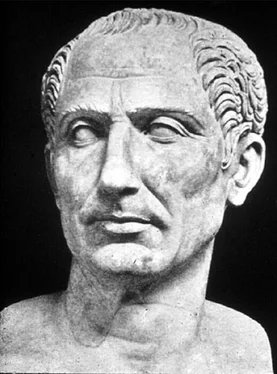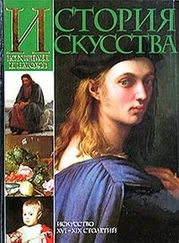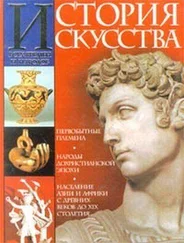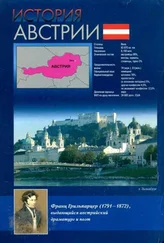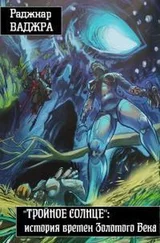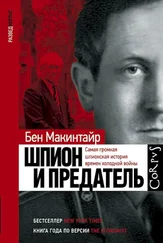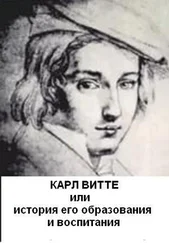Этот факт имел далеко идущие последствия: даже неизбежные реформы шли по старому пути и были сориентированы на старые модели и структуры. Например, считалось, что кризис аграрного сектора можно ликвидировать с помощью воспроизводства мелкого крестьянства, хотя давно уже была замечена ненадежность подобного существования. В области администрации и военного руководства также крепко держались за старые традиции, хотя уже давно было ясно, что возросшие задачи больше не могли выполняться с помощью старого инструментария и прежних форм.
Среди многочисленных факторов и явлений кризис поздней республики еще раз подтверждает старую основную черту римской политики: в ней никогда не было альтернативных политических и общественных программ. В ней никогда не шла речь о выборе между различными структурами и системами, о долгосрочных программах и об установлении определенного политического или общественного курса, но постоянно говорилось о единичных конкретных вопросах, о случайных решениях или о выборе между определенными лицами. Постановления сената и народного собрания предлагали конкретные меры и давали узко ограниченные указания. Не выполнялись никакие планы, не было осуществлено ни одной программы, решения принимались для определенного случая , что свидетельствовало о совпадении интересов правящего слоя и граждан, а также о внутренней закрытости и когерентности системы.
Итак, понятно, что даже в драматической фазе римской истории, в период между Гракхами и Августом, политические конфликты возникали вокруг отдельных законодательных предложений и прошений, вокруг власти, которая была представлена отдельными лицами, но не вокруг отдельных программ или альтернативных решений. Даже у начинаний Тиберия Гракха, Мария, Сатурнина, Цезаря или Августа в центре стояли конкретные, отдельные решения. Фокусирование на единичных краткосрочных мерах и стремление к их выполнению в пределах нескольких месяцев всегда были признаками эскалации кризиса. Законы Лициния—Секста от 367—366 гг. до н.э. в этом отношении были такими же, как инициативы Гая Гракха, энергичные реставрационные законы Суллы. Это был водопад единичных мер в различных областях, позже такие же меры характеризовали диктатуру Цезаря и не менее важные по своему значению распоряжения Августа.
Имея в виду эти традиции, полным анахронизмом является ожидание сформулированной политической программы от оптиматов, популяров и отдельных римских политиков. Характерным признаком римской политики в этот период было как раз то, что за высокопарными словами скрывались конкретные цели. Короче говоря, кто занимался политикой, произносил громкие слова: одни якобы защищали права народа, другие оберегали авторитет сената. На самом же деле они все «боролись только за свою власть» (Саллюстий. «Катилина»).
Политика Рима I века до н.э. все больше и больше становилась вопросом власти. Изменения в структурах сами по себе не объясняли упадка Римской республики. Только благодаря сосредоточению власти внутри правящего слоя и мобилизации войсковой клиентелы и плебса , влияние отдельных лиц распространялось на все большие группы людей. Возобновляющиеся политические конвульсии привели в конце концов к хаотическому состоянию императорской эпохи, после того как республика распалась в результате радикализации борьбы отдельных групп. Отрекаться от власти представители олигархии не умели, их нужно было уничтожить политическими и психологическими методами.
История ранней и классической Римской республики, с одной стороны, знает целый ряд героизированных политиков и военных, с другой же, все эти люди были полностью интегрированы в общество и государство. Даже для такого особенно важного периода времени, как I Пуническая война, античные источники не называют ни одной личности, которая определяла бы римскую политику, а скорее создают впечатление коллективного руководства. Когда Катон Старший в своем историческом труде «Древнейшая история» не называет имен действующих лиц, а обозначает их, например, «консул», то это, видимо, уже более поздний симптом.
Очевидно, Катон уже почувствовал, что в лице его крупного политического противника Сципиона Африканского начинается новый процесс, который в конечном итоге приведет к абсолютизации отдельных личностей. Именно Сципион Африканский открывает ряд «выдающихся индивидуальностей», которые, по Гегелю, характеризовали позднюю фазу Римской республики. «Их несчастье состоит в том, что они не смогли сохранить нравственное начало, потому что то, что они делали, являлось преступлением и было направлено против сущего. Даже самые благородные из них — Гракхи — не только сами подвергались несправедливости, но и были вовлечены в общий разврат и несправедливость. Но то, что эти индивиды делали и хотели, имело высшее оправдание и приносило победу» («Лекции по философии истории». Штутгарт, 1961).
Читать дальше