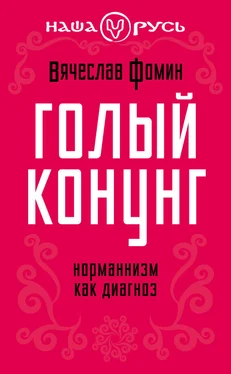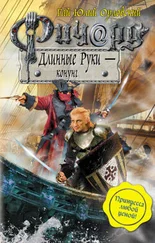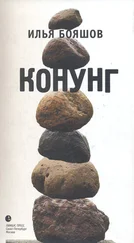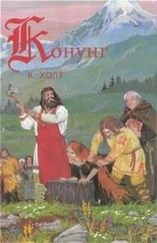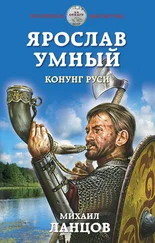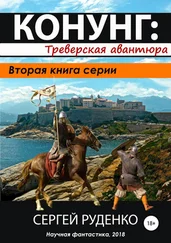1 ...7 8 9 11 12 13 ...135 Ломоносов очень много и плодотворно занимался эпохой и личностью Петра I, стрелецкими бунтами. В 1757 г. он написал, по просьбе И.И. Шувалова, примечания на рукопись «Истории Российской империи при Петре Великом» (первые восемь глав) Ф.-М.А. Вольтера, где исправил многочисленные ошибки и неточности текста, и все эти поправки были приняты европейской знаменитостью. Так, он переработал и расширил раздел «Описание России», полностью переделал главу о стрелецких бунтах, воспользовавшись присланным Ломоносовым «Описанием стрелецких бунтов и правления царевны Софьи» (в авторской редакции: «Сокращенное описание самозванцев и стрелецких бунтов»), во многих случаях почти дословно воспроизводя последнее в своей «Истории» (но французский философ не принял замечания Г.Ф. Миллера, сказав: «Я бы желал этому человеку побольше ума и поменьше согласных»). Ломоносову принадлежат «Сокращение о житии государей и царей Михаила, Алексея и Феодора» и «Сокращенное описание дел государевых» (Петра I), которые он также готовил для Вольтера и которые не исчезли, а читаются в «Кратком Российском летописце» [25].
Огромная заслуга Ломоносова перед исторической наукой заключается и в том, что он норманнизму, как ложному представлению о начале русской истории, всегда давал решительный отпор, например в известной дискуссии 1749–1750 гг. по речи-«диссертации» Миллера «О происхождении народа и имени российского».
Причем норманнисты, рисуя Ломоносова каким-то зоологическим неприятелем Миллера, забывают сказать, что в 1747 г. Ломоносов в споре Миллера и Крекшина принципиально поддержал первого, ибо на его стороне была правда, но эту правду надо было еще доказать перед Сенатом, т. к. чреватый очень большими неприятностями спор касался происхождения царствующей династии, которую русский Крекшин надуманно выводил от Рюрика. И такая позиция русского Ломоносова не только уберегла немца Миллера от самых серьезных неприятностей, но и сберегла его для нашей науки (а ведь Крекшин прямо «намеревался уличить в государственном преступлении» Миллера. Случись такое, ему бы не избежать весьма «теплой» встречи с Тайной розыскных дел канцелярией, одно название которой наводило ужас. И кто бы тогда знал о нем?).
Они также молчат, что речь-«диссертацию» Миллера во время ее обсуждения отвергли немцы И.Э. Фишер и Ф.Г. Штрубе де Пирмонт (которых ну никак не записать в русские патриоты и тем более в «ультра-патриоты»), также сказавшие о «предосудительности» его речи России (а такую формулировку для оценки этой речи, которую он сам охарактеризовал как «галиматья г. Миллера», предложил глава Канцелярии Академии наук немец И.Д. Шумахер). Так, Штрубе де Пирмонт отмечал в 1749 г., что Академия справедливую причину имеет сомневаться, «пристойно ли чести ее помянутую диссертацию публично читать и напечатавши в народ издать» (позже он пояснил, что Миллер «предлагает о начале россиян понятия, совсем несходные с краткими и ясными показаниями наших летописцев и с известиями чужестранных историков…»). То же самое в том же 1749-м говорил и Ломоносов: «диссертация», поставленная на «зыблющихся основаниях», «весьма недостойна, а российским слушателям и смешна, и досадительна».
Факт, что сочинение немца Миллера не приняли немцы Фишер, Штрубе де Пирмонт, Шумахер, что позже немец А.Л. Шлецер увидел во многих ее положениях «глупости» и «глупые выдумки», а немец А.А. Куник (как же заразителен этот «ультра-патриотизм»!) в целом охарактеризовал ее как «препустую», отметает все норманнистские домыслы об отсутствии в критике русского Ломоносова каких-либо серьезных оснований, кроме как только патриотических (начало такому мнению, ставшему самым главным «аргументом» в разговоре норманнистов с оппонентами вообще и с особенной силой вновь зазвучавшему в устах современных российских ученых, положил Шлецер. Стремясь выставить Ломоносова перед просвещенной Европой в самом неприглядном виде, Шлецер утверждал в своих воспоминаниях и «Несторе», что его неприязненное отношение к речи немца Миллера объясняется тем, что он «был отъявленный ненавистник, даже преследователь всех нерусских»). Остается добавить, что сам Миллер в 1773 г., говоря о выходе «диссертации» в Геттингене «вторым уже тиснением» без его участия, с нескрываемым сожалением признал: «Много сделал бы еще в оном перемены» [26].
В 1764 г. Ломоносов дал отпор и этимологическим безобразиям Шлецера – попыткам выводить, с целью демонстрации «научности» норманизма, русские слова из германских языков. Например, производство слов «князь» от немецкого «Knecht» – «холоп», «дева» либо от немецкого «Dieb» – «вор», либо нижнесаксонского «Tiffe» – «сука», либо голландского «teef» – «сука», непотребная женщина, название которой не каждый мужчина решится произнести. Ознакомившись с такими оскорбительными – а подобные «словопроизводства» заденут честь любого народа – для русского человека «открытиями» Шлецера, Ломоносов, отметив его «сумасбродство в произведении слов российских», заключил, что «каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная в них скотина». Как норманнист В.О. Ключевский хотя и считал, что Ломоносов «до крайности резко разобрал» «Русскую грамматику» Шлецера, но в то же время как ученый полностью признал его правоту. «Действительно, – говорил он, не скрывая своего искреннего недоумения, проистекавшего из созданного нашей же наукой культа Шлецера, – странно было слышать от ученика Михаэлиса такие словопроизводства, как боярин от баран, дева от Дiев, князя от Knecht» [27].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу