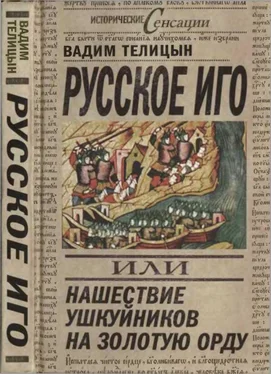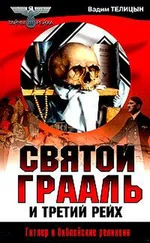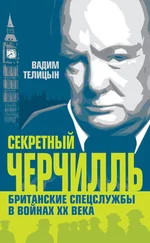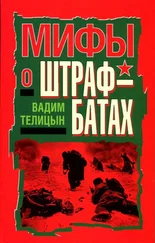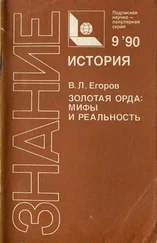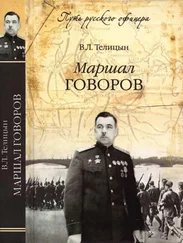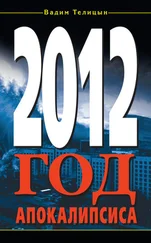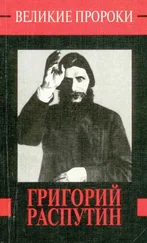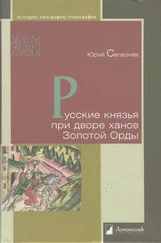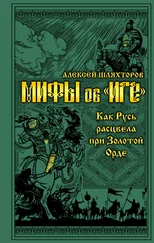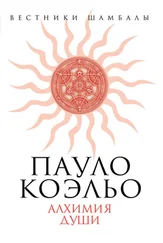На следующий год отправлено снова войско под главным начальством князя Патрикеева: на этот раз москвичи взяли два вятских города: Орлов и Котельнич. Вятка покорилась и признала над собою власть великого князя. Но это признание было только на словах. Она продолжала управляться сама собою. В 1468 году вятчане заключили союз с казанским царем Ибрагимом и не хотели помогать москвичам и соединенным с ними русским силам против татар. Они то отговаривались, что царь казанский обязал их не стоять ни за кого, то не отвечали на приглашения. Видно было, что Москва внушала им такую ненависть, что они не поддались искушению — воевать своих непримиримых врагов, татар, которые издавна беспрестанно грабили и разоряли их, где только могли. Но в 1471 году они пошли за великого князя против других своих врагов и братьев — новгородцев; их ополчение воевало против двинян. В тот же год другое ополчение совершило блистательный ушкуйнический набег на понизовье Волги: оно напало врасплох на Сарай, взяло и ограбило его. Татары спохватились, пустились по Волге вперед, чтоб загородить им путь: вся Волга была перенята их судами; но вятчане пробились сквозь них. Хотели было перенять их под Казанью, но и там пробились они и благополучно ушли в свою землю с добычею.
Участвуя в поражении Новгорода, Вятка приготовила гибель и себе. Новгород пал, а Вятка напрасно думала оставаться со своей независимостью, с своим народоправством и с своею удалою вольницею. По давнишней вражде своей к Устюгу, вятчане в 1486 году пошли воевать на этот город; ограбили три устюжских волости, а потом подплыли под городок устюжский, Осиновец; но тут ушли от них воеводы и они обратились назад. Эти самовольные походы дали право московскому государю укорять их в разбойничестве. Когда потом войска великого князя отправились в поход против казанцев, вятчане решительно объявили себя независимыми и прогнали великокняжеского наместника, к ним посланного. Иван Васильевич, верный своей политике — казаться правым, действовать прежде всего убеждениями и нравоучениями, и, по-видимому, прибегать к уничтожению старого свободного порядка как бы в крайнем случае, приказал митрополиту Геронтию написать к ним увещательные послания. Таких посланий дошло до нас два: одно к вятчанам всем вообще, другое к вятскому духовенству. Послание к вятчанам обращено к воеводам, атаманам и ко всему вятскому людству. «Вы, — писал митрополит, — только что зоветесь христианами, а делаете злыя дела: обидите святую соборную апостольскую церковь, русскую митрополию, разоряете церковные законы, грубите своему государю великому князю, пристаете к его недругам, соединяетесь с погаными, воюете его отчину, губите христиан убийством, полоном и грабежом, разоряете церкви, похищаете из них кузнь (металлические вещи), книги и свечи, да еще и челом не бьете государю за свою грубость». Он грозил им, в случае непослушания, приказать священникам затворить все церкви и выйти прочь из Вятской Земли, и на всю землю посылал проклятие. В послании к священникам митрополит изъявляет сомнения, действительно ли они настоящие духовные лица. «Мы не знаем, — пишет он, — как вас называть; не знаем, от кого вы получили поставление и рукоположение». Действительно, не имея своих владык, неизвестно откуда Вятка получала священнослужителей. Вероятно, туда приходили из разных мест духовные лица; и свои вятчане отправлялись посвящаться в разных местах. Понятно, что при таком составе там господствовало чрезвычайное уклонение от церковного порядка. Митрополит укорял их, что их духовные дети, вятчане, не наблюдают церковных правил о браках, женятся, будучи в родстве и сватовстве, иные совокупляются четвертым, пятым, шестым, седьмым браком. Видно, что вятские священники не хотели знать никакого святителя, потому что митрополит грозит наложить на них тягость церковную, выражаясь так: «если вы, зовущиеся священниками, игуменами, попами, диаконами и черноризцами, не познаете своего святителя»…
Эти послания, как следовало ждать, не имели успеха. Великий князь послал на Вятку рать под предводительством Шестака-Кутузова [182]. Но этот воевода поладил с вятчанами. Они как-то оправдали себя, и он воротился, не сделав им зла. Иван Васильевич двинул на них в 1489 году другое сильное войско, под главным предводительством князя Данилы Щени и Григория Морозова; с ними пошли тверичи, вологжане, устюжане, двиняне, вожане, каргопольцы, белозерцы, жители берегов Выми и Сысолы: Иван умышленно составил это ополчение преимущественно из северных соседей вятчан, которые были их давние враги, терпели от них много раз набеги и разорения и теперь с охотою шли мстить своим извечным недругам. Даже татар казанских послал московский государь на вятскую землю — мстить за всю старую злобу. Войска было, — по сказанию архангельского летописца, — шестьдесят четыре тысячи; эта страшная сила прошла опустошительной грозою по Вятской земле и 16 августа явилась под Хлыновым. Вятчане — так смело презиравшие могущество московского государя, решаясь не покоряться тому, кто уже подчинил себе Новгород, — конечно, не ожидали, чтобы столько гостей, да еще таких старых знакомых гостей, явилось у них под стенами. Сопротивляться было невозможно. Они выслали воеводам поминки с Исупом Глазастым: это средство прежде удавалось; но теперь воеводы поминки приняли, а вятчанам дали срок только до другого дня. На другой день вышли из города большие люди, поклонились воеводам и сказали: «Покоряемся на всей воле великого князя, и дань даем и службу». Воеводы отвечали: «Целуйте крест за великого князя и выдайте ваших изменников и крамольников: Ивана Оникиева, Пахомия Лазорева, да Палку Богодайщикова»». Вятчане сказали на это: «Дайте нам сроку до завтраго». — «Даем», — отвечали воеводы и отпустили их.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу