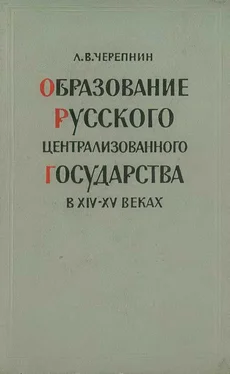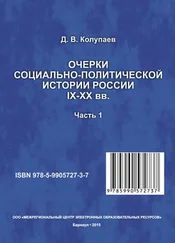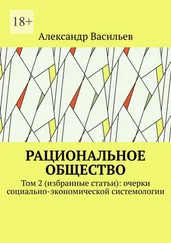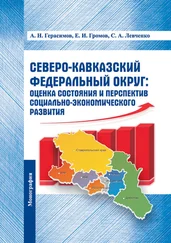По-видимому, сообщаемым летописью в трафаретных выражениях сведениям о единстве смольнян по вопросу о верности Литовскому государству и воеводе и о том, что они неожиданно «присягу свою переступили», нельзя безусловно доверять. Недовольство литовским господством, надо думать, накапливалось давно. Известие о гибели великого литовского князя и о начавшейся в связи с этим в Литве «замятие» должно было возбудить какие-то надежды на возможность освободиться от иноземного владычества. Но пути и средства к этому были неясны. Горожане не были готовы к выступлению против литовской администрации. С другой стороны, очевидно, соответствующую мобилизацию сил феодалов провел Андрей Сакович. Большинство русских феодалов, боясь движения враждебных им социальных элементов, приняло его сторону. В таких условиях горожане были вынуждены присягнуть на подданство Литве. И в то же время они, по-видимому, стали готовиться к выступлению против литовской администрации и поддерживавших ее русских бояр.
Летописная версия о смоленском восстании 1440 г. представляет его как акт, внезапно осуществленный черными людьми. В среду на пасхальной неделе «здумали чорныи люди смолняне» (кузнецы, кожемяки, «перешевники» (портные), мясники, котельники) — «раду себе учинили» и решили (в нарушение присяги) изгнать воеводу («пана Андрея согнати силою с города»), «а целование переступили». Ремесленники вооружились («и наредилися во изброи») сулицами, стрелами, косами, секирами и «зазвонили в колокол (другой вариант — «в звон») ратный» (радный).
Так началось антифеодальное выступление смоленских горожан. Вышеизложенные соображения позволяют думать, что оно все же заранее подготавливалось. Слова «раду себе учинили» указывают на собрание городского населения — вече. Возможно, что организационную подготовку к восстанию вели и отдельные профессиональные объединения ремесленников, на существование которых как будто указывают летописи, говоря о ремесленных специальностях. Мало вероятно, что в среду на пасхальной неделе черными людьми неожиданно было вынесено решение — заставить воеводу покинуть Смоленск. Скорее летописный текст надо понимать в том смысле, что на этот день было назначено вооруженное выступление и горожане предварительно уже (хотя бы в общих чертах) разработали его план. Сигналом к восстанию должен был послужить колокольный звон. Выражение «зазвонили в колокол («в звон») ратный» можно понимать как «позвонили в колокол, давая тем самым сигнал к выступлению на рать», к началу военных действий против воеводы и его окружения. Но вернее, что вместо «ратный» следует читать «радный» (вечевой) и интерпретировать летописное сообщение в том смысле, что ударом в вечевой колокол черные люди созывались для предъявления смоленскому воеводе ультиматума о выезде из Смоленска и приглашались активно (вплоть до применения оружия) добиваться выполнения этого требования.
Далее летопись рассказывает о том, что смоленский воевода устроил совещание с местными боярами («почал ся рядити со бояри смоленскими»). Очевидно, целью такого совещания являлось желание воеводы выяснить отношение к себе русской землевладельческой знати и вместе с ней наметить линию поведения в отношении восставших горожан. Из летописи не видно, вел ли воевода какие-либо переговоры с черными людьми. Из летописного контекста скорее вытекает, что боярский совет был созван Андреем Саковичем до того, как черные люди выдвинули перед ним свои требования, и решение совета свелось к тому, чтобы подавить восстание вооруженной силой, не вступая ни в какие переговоры с начавшими движение ремесленниками. Именно так я понимаю слова летописи: «И бояре ему [воеводе] молвили: вели, пане, дворяномь своим убиратися у зброи, а мы и с тобою, чи лепшеи датися имь в руки» (или по другому списку — «чи лепшеи тобе датися в руки черни»). В этих словах чувствуется и недоверие представителей господствующего класса к массе городского ремесленного населения, и желание расправиться с нею при помощи находившегося в распоряжении воеводы военного дворянского отряда. Пусть вооружаются твои дворяне, и мы будем сражаться вместе с ними против горожан; если же не поступить таким образом, то лучше уже прямо отдаться в руки черни, чем пытаться вступать с ней в соглашение, — вот, по-моему, смысл совета, данного боярами воеводе.
Андрей Сакович воспользовался этим советом и выдвинул против восставшего городского ремесленного населения конных ратников (бояр и дворян), вооруженных копьями («и пан Андрей почался з бояры смоленскими и со всем двором своим на них с копьи на конех…»). Произошла битва. Военное преимущество было явно на стороне Андрея Саковича. Много восставших горожан было убито или ранено («…избиша много черных людии копии до смерти, а иныи ранены…»). Оставшиеся в живых были вынуждены отступить («и побегоша черный люди от пана Ондрея»). Казалось бы, воевода и бояре одержали победу над «чернью», подавили антифеодальное восстание. Но вслед за сообщением о бегстве горожан под натиском конного дворянского отряда летопись совершенно неожиданно отмечает: «И той нощи выеха пан Андреи из города со женою и бояре смоленскыи с нимь» [2283] ПСРЛ, т. XVII, стр. 68, 183, 287, 339.
. Это сочетание двух известий невольно заставляет задуматься: кто же, собственно, бежал? Летописная терминология довольно последовательна: обратилась в бегство «чернь», а воевода с боярами уехали из города. Но этот ночной (очевидно, из опасения возможной задержки) выезд Андрея Саковича в окружении других представителей господствующего класса гораздо больше похож на бегство, чем на временный уход с места битвы плохо вооруженных ремесленников, на которых были направлены копья конных воинов-профессионалов. Очевидно, результат сражения был (несмотря на сильные потери, понесенные горожанами) таков, что представители господствующего класса поняли, насколько им опасно дольше оставаться в Смоленске. И то, что летопись называет выездом из города литовских феодалов и местной администрации, было по существу вынужденным выполнением ими приговора черных людей об их изгнании из Смоленска. Победила «чернь», поднявшая антифеодальное восстание.
Читать дальше