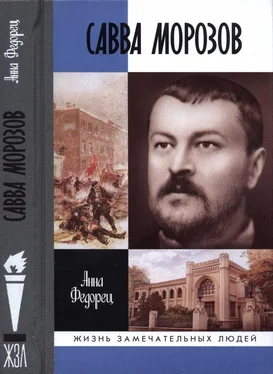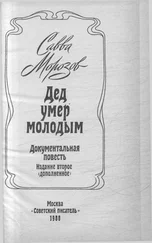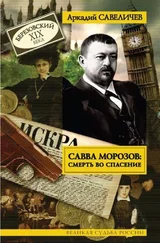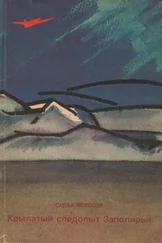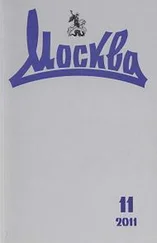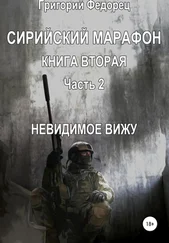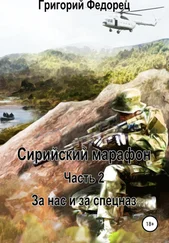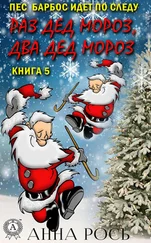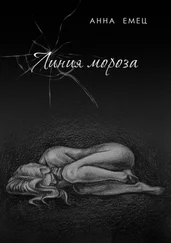Что касается религиозных представлений Саввы Тимофеевича, то здесь дело обстояло еще сложнее. Трудно проследить за душевными движениями человека, если сам он не желает, чтобы эти движения кто-либо увидел. И даже если временами проглядывают неясные сполохи от сильных перемен в душе, не стоит трактовать их однозначно. Особенно если этот человек, по выражению его современников, «ох, какой глубокий и сложный!». [185] Амфитеатров А. В. Из литературных воспоминаний // Руль. 1922. № 553. 23 (10) сентября. С. 2.
Тем не менее кое-что увидеть всё же можно.
Уже говорилось, что С. Т. Морозов был воспитан глубоко верующими людьми, с детства обретя навык молитвенного общения с Богом. Говорилось и о том, что на гимназической скамье он научился «не веровать в Бога». Тем не менее это не помешало ему на протяжении нескольких лет «занимать одно из первых мест» в совете Рогожской старообрядческой общины. Исследовательница Н. А. Филаткина пишет: «После кончины Тимофея Саввича произошел разрыв Саввы… с этой общиной, а в 1892 году Савва вследствие ряда не названных им причин отказался выполнять обязанности выборного. Видимо, этот разрыв произошел в результате его женитьбы на «разводке» Зинаиде Григорьевне, что было недопустимо в среде старообрядцев». [186] Филаткина Н. А. Указ. соч. С. 77–78.
Однако четкой взаимосвязи между этими событиями не прослеживается: к 1892 году прошло четыре года с момента женитьбы Саввы Тимофеевича на Зинаиде Григорьевне. Получается, что, не веруя в Бога и нарушив устои своей общины, С. Т. Морозов на протяжении нескольких лет все же продолжал активно участвовать в жизни общины — и та, несмотря на строгое отношение к нарушителям старообрядческих устоев, не исторгала его из своей среды. Более того, еще и в начале 1900-х годов, в период дружбы с Горьким, Савва Тимофеевич поддерживал контакты со староверческим сообществом. Так, может быть, Морозов не являлся тем атеистом, которым его принято изображать? Может, он был человеком шатающимся, не стойким в вере, но не покидающим ее окончательно?
Писатель, публицист Александр Валентинович Амфитеатров в романе «Дрогнувшая ночь», посвященном «памяти хорошего человека Саввы Тимофеевича Морозова», приводит любопытный эпизод. Он пишет: «Старая вера мешала Савве… быть утвержденным на посту… московского городского головы, хотя этого поста он и сам желал, и москвичи его в головы прочили. Да и в правительстве многие находили, что этот выбор был бы и представителен, и полезен, так как направил бы «будирующую» [187] Будировать — значит выражать недовольство кем-либо, быть в конфликте с кем-либо.
деятельность молодого купеческого лидера и капиталы, им повелеваемые, не к огорчению властей, но к утешению… Но, когда Савве совершенно ясно дали понять, что дело стоит только за присоединением его к православию, Савва под большие колокола не пошел и купить удовольствие головить на Москве отступничеством от веры отцов своих наотрез отказался.
— Да не все ли вам равно, Савва Тимофеевич? — убеждали его. — Ну, какой вы старовер?.. Образованный человек, интеллигент… Ну, на что вам далось ваше старообрядчество? Какой смысл вам за него держаться? Что вы в нем для себя нашли?
А он с улыбочкою, себе на уме, возражал:
— Как что-с? Прекрасная вера-с. Как отцы, так и мы. Очень хорошая вера-с. Купеческая-с». [188] Амфитеатров А. В. Дрогнувшая ночь… С. 55–56.
Трудно сказать, имел ли этот эпизод место в действительности. Но, видимо, дыма без огня не бывает: Амфитеатров отлично знал и уважал Морозова, а потому вряд ли стал бы на пустом месте возводить напраслину на большого купца. Итак, он характеризует С. Т. Морозова как человека, не собиравшегося порывать с общиной и отказываться от веры предков даже ради предложенного ему высокого поста. Подтверждением подобного вывода служат строки из воспоминаний Д. А. Олсуфьева, университетского товарища Морозова. По словам Дмитрия Адамовича, «Морозов до конца жизни держался по семейным традициям старой веры, но… не имел никаких религиозных запросов; допускаю даже, что он был атеистом и, во всяком случае, полным религиозным индифферентом».
Олсуфьев очень осторожен в формулировках, и не зря. Судя по всему, Савва Тимофеевич, потеряв в отрочестве живую связь с Богом, тяготился этой потерей, постоянно искал, чем бы ему заполнить образовавшуюся в этом месте души пустоту. Об этом говорит один эпизод, приведенный Максимом Горьким. Он описывает похороны Антона Павловича Чехова — крупного писателя, драматурга, с которым и Горький, и Морозов были в теплых отношениях. Похороны состоялись в Москве 9 июля 1904 года. «Мы пришли с похорон А. П. Чехова и сидели в саду Морозова, настроенные угнетенно. Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом писателя шагало человек сто, не более… Какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:
Читать дальше