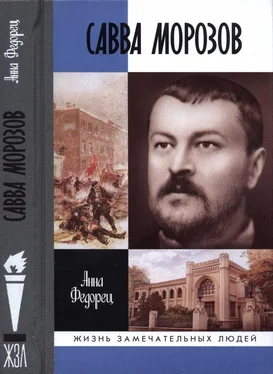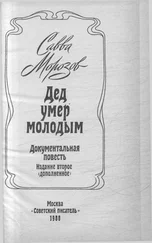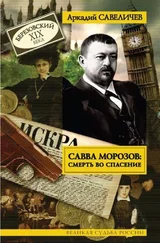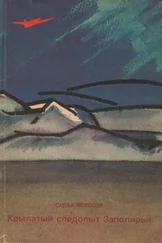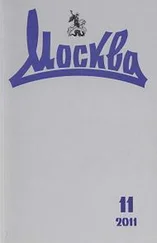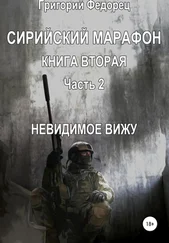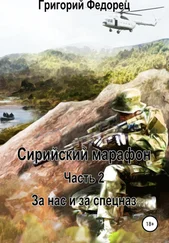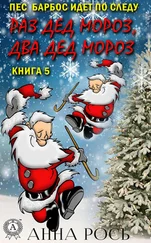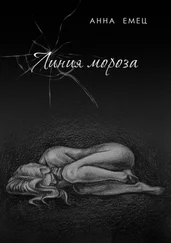О либеральных взглядах и речах С. Т. Морозова упоминали такие разные люди, как «пламенный революционер», впоследствии видный деятель советского правительства Л. Б. Красин; публицист, эмигрировавший из большевистского государства, А. В. Амфитеатров; купеческая дочь, эмигрантка В. П. Зилоти. Последняя уточняет: С. Т. Морозов «…был либерал, увлекался рабочим вопросом». [180] Зилоти В. П. В доме Третьякова. М., 1998. С. 51.
«Рабочий вопрос» встал в центр всей общественной деятельности Саввы Тимофеевича. И в том, каким путем предприниматель двигался к его решению, наилучшим образом раскрывается его «либерализм». На протяжении 1890-х годов в попытках купца разобраться с этим вопросом не было никакой марксистской «подложки». Ничего революционного, ничего радикального, боже упаси! Тем более никакой «борьбы с самодержавием». Напротив, все стремления С. Т. Морозова в решении этого и других насущных вопросов российской жизни были направлены на проведение политических реформ. Именно так: он реформист, он, в какой-то степени, сущий европеец по своей тяге к эволюционному совершенствованию общественного устройства.
На законодательном уровне он отстаивал гражданские права рабочих: право на справедливые условия труда, на сокращение рабочего дня, а позже, в 1900-х — на создание союзов, на стачку и т. п. Так, в 1897 году на заседании очередной правительственной комиссии по ограничению рабочего дня С. Т. Морозов открыто настаивал на ограничении продолжительности рабочего дня двенадцатью часами. [181] Рабочее законодательство, в том числе закон об ограничении рабочего времени на предприятиях (1897), разрабатывалось при активном участии министра финансов С. Ю. Витте.
Причем, по мнению Морозова, это ограничение в обязательном порядке должно быть прописано в законе. Говоря словами современных исследователей, далеко «…не каждый фабрикант мог открыто высказать подобные требования своим коллегам и правительству». [182] Филаткина Н. А. Династия Морозовых: лица и судьбы. М., 2011. С. 308.
Точно так же — путем активного диалога с властью — Савва Морозов отстаивал права и интересы того класса, к которому принадлежал по праву рождения — купечества. Но об этом — ниже.
Что же касается отношения к властям, то вплоть до конца 1890-х Савва Тимофеевич с ними активно сотрудничал, легальными способами добиваясь с их стороны уступок и по рабочему вопросу, и по различным нуждам предпринимателей. Он был вхож в министерские кабинеты, «знал тайные ходы петербургских департаментов», [183] Немирович-Данченко Вл. И. Рождение театра: Воспоминания, статьи, заметки, письма. М., 1989. С. 124.
находился в приятельских отношениях с С. Ю. Витте и многими другими высокопоставленными сановниками. Он представлял купечество в диалоге с представителями правящей династии как по делам, так и на разного рода официальных торжествах: поздравлял членов императорской семьи со вступлением в брак, выражал соболезнования по случаю кончины императора Александра III. О добрых отношениях Морозова с правительством говорит и тот факт, что в 1895 году правление Никольской мануфактуры пожертвовало десять тысяч рублей на сооружение в Москве, перед храмом Христа Спасителя, памятника императору Александру III. К покойному царю Савва Тимофеевич, как и Тимофей Саввич, относился с большим уважением. Известно, что С. Т. Морозов возглавил депутацию для возложения венка на царский гроб в Петропавловском соборе. [184] Морозова Т. Я., Поткина И. В. Савва Морозов. М., 1998. С. 144.
Любопытно, что еще в начале 1900-х Савва Тимофеевич проявлял либеральные воззрения, ратуя за систему представительного правления, ограничивавшего, но не отменявшего самодержавие, за всеобщие прямые выборы, за обеспечение гражданских прав и свобод.
С другой стороны, по ряду вопросов — главным образом в экономической области — Морозов отстаивал консервативные взгляды. Так, он являлся последовательным противником фритредерства, то есть свободной торговли между различными странами и свободной конкуренции внутри страны. Между тем за фритредерские идеи ратовала либеральная часть чиновничества. Савва Тимофеевич, как прежде его отец, возглавлял ту часть купечества, которая считала, что государство должно при помощи протекционистской политики оградить русскую экономику от конкуренции с более развитой западной.
А. В. Амфитеатров представляет Савву Морозова лидером «бунтующего капитала», а П. А. Бурышкин в тон ему говорит: «На бирже и в Купеческой управе фронда начинается с выступления на общественную арену Саввы Тимофеевича Морозова, то есть с начала девяностых годов». Казалось бы, эти суждения вступают в противоречие с тем, что было сказано выше. Однако никакого противоречия здесь нет. Дело в том, что политические воззрения С. Т. Морозова были независимы и плохо укладывались в прокрустово ложе современных ему течений. Нужно хорошо понимать, что в этот период он не пытался протестовать против системы; все его усилия, весь его протест были направлены на изменение положения внутри системы и при помощи тех средств, которые эта система сама дала в его распоряжение.
Читать дальше