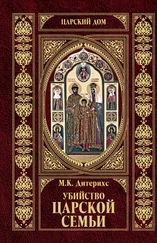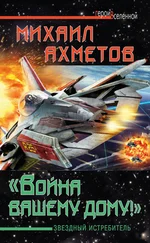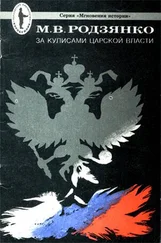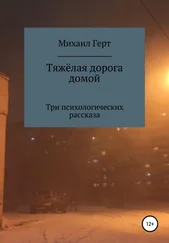Кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое. кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее
Дж. Оруэлл
Кстати, тот самый Шопенгауэр сыграл большую роль в моём становлении, как учёного и личности. Известная тебе уже кафедра биохимии мединститута находилась по адресу: ул. Крупской, 44. Недалеко от дома родителей. (Вот почему я так люблю приходить туда даже в плохую погоду). Там же был и читальный зал иностранной литературы. Однажды, придя за новой порцией статей, увидел прямо на столике кем-то сданную книгу Шопенгауэра на немецком языке. В СССР брежневских времён такой автор не мог увидеть свет, что меня и поразило. Действительно, на ней стояли место и дата издания — Берлин, 1923. В свободное время жадно поглощал невиданное чтение, тем более будущая супруга в этом меня сильно поощряла (да и было чем её удивить, а стало быть, и покорить женское сердце?), а потом много лет цитировал студентам и приятелям.
Честь мужчины состоит не в том, что он делает, но в том, способен ли он плыть против течения
А. Шопенгауэр
Сделай и ты эту книгу настольной!
Между тем, к тебе пришли и первые ощутимые, лучше сказать, наглядные успехи в учении: в понедельник ты впервые произнёс свой имя как «Мак», а потом вдруг сказал «авария». А вчера учинил настоящий катаклизм: выдвинул ящик из шкафа, обрушил его на пол со всем содержимым, сумевшим разлететься по полу — и снова проговорил это слово. Ещё сказал «олень». Это, наверное, потому, что моя Наташа начала скупать все детские игрушки подряд и даёт их тебе щупать.
Но всё же вернёмся к историческим аспектам беседы. Мой настоящий интерес к краеведению начался с поезда. Это было летом 88 или 89 года, когда мы с семьёй ехали на отдых из Перми в Иркутск. Там жила моя тётя Александра (все её звали Саня). На какой-то станции в купе зашёл человек и предложил купить книги. Я выбрал одну. Это было издание Михаила Осоргина. Фамилия мне ничего не говорила. Ещё бы. При чтении предисловия выяснилось, что этот писатель был репрессирован в первые годы Советской власти (захотел накормить умирающих с голода жителей Поволжья, хотя та самая народная власть намеревалась их решительно погубить), попал в тюрьму, из которой вышли далеко не все. После ареста изгнан из России за границу — его имя было вычеркнуто из истории и литературы. Но удивило и встревожило меня то, что писатель был по происхождению пермяком. Уже в поезде я знал, что буду делать по возвращении. Так и пошло. По приезде домой жена через свою старшую подругу и коллегу, которая ценила Наташу выше всех гинекологов на свете, «сосватала» меня к местной знаменитости Елене Александровне Спешиловой. (Одна из улиц города названа в честь её отца-писателя). Мы с ней крепко подружились на почве интереса к М. Осоргину, умершему во Франции в 1942 году. Она тоже о нём ничего не знала, зато ей был известен брат вынужденного эмигранта по фамилии Ильин, которого советская цензура позволяла упоминать. Он был поэтом.
Оказалось, что в Париже ещё проживала жена писателя Татьяна Алексеевна Бакунина и была сотрудником Тургеневской библиотеки во французской столице. Заводилой всего был я. Спешилова была много занята изданием своих трудов, в частности, историей улиц нашего города. К нам присоединилась журналистка, которая нашла способ переправить письмо «туда». Втроём и подписали мою заготовку. Неожиданно и довольно быстро пришёл ответ. Бакунина была крайне рада. Потом она слала корреспонденции на имя Е.А. Спешиловой для всех и по-отдельности. У меня тоже хранится два её коротеньких письмеца, отпечатанных на машинке. Есть и сканированная копия.
Я так увлёкся сочинениями М. Осоргина, что перечитал их все: то, что было уже переиздано в годы перестройки и то, что имелось только в библиотеке Горького. Решив познакомить пермяков с творчеством писателя, подготовил для публикации дайджест его произведений объёмом в 35–40 машинописных страниц. Однако ни в одну газету материал не удавалось «пристроить» — редакторы уже поняли, что перестройка заканчивается, и мой литературный багаж был не очень актуален для них, они уже больше задумывались о своём политическом капитале и не простом «деревянном» советском рубле. Усилия Спешиловой не помогали. В конечном счёте, часть дайджеста была опубликована в свердловской газете «Наука Урала», но под именем той самой журналистки. Меня это почти не огорчило. Я уже отходил от этого рода увлечения и в начале 90-х годов взял курс на психотерапию. Со Спешиловой мы встречались, хоть и нечасто, обычно общались по телефону. Жила она очень стеснённо, не только в деньгах, последние десять лет практически не покидала своей квартиры, что недалеко от цирка. Но своё главное творение она всё-таки сумела издать [79*]. Сколько же унижений за это она вынесла! Около пяти лет шли переговоры с областным отделом культуры, но даже когда деньги на печатание книги выделили, ещё около года их «крутили» в банках и лишь потом, сумев снять «сливки», отдали краеведу. Экземпляр этого замечательного труда хранится у меня, там есть такое посвящение: «Мишеньке и Наташеньке от Леночки и Сашеньки. 6.06.2003 г.» Теперь Елены Александровны уже нет. Она скончалась в январе этого года. Я потерял большого друга. Более десяти последних лет жизни она очень тяжело болела (у неё была непереносимость почти всех пищевых продуктов). Однако всегда была добра, весела, творчески активна.
Читать дальше