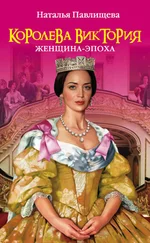II
Дела в Сидмуте оказались столь запутанными, что герцогиня не смогла изыскать средств для возвращения в Лондон. На помощь поспешил принц Леопольд и лично, медленными и горькими этапами, сопроводил сестру со всей ее семьей в Кенсингтон. Одетой во все черное овдовевшей леди потребовалась вся ее воля, чтобы это выдержать. Теперь ее перспективы стали еще туманнее, чем прежде. Она имела собственный ежегодный доход в 6000 фунтов стерлингов, но долги мужа возвышались перед нею подобно горе. Вскоре она узнала, что герцогиня Кларентийская снова ждет ребенка. На что еще она могла надеяться в Англии? Зачем ей надо было оставаться в чужой стране, среди незнакомцев, на языке которых она не говорила и чьих традиций не понимала? Конечно, лучше было вернуться в Аморбах и здесь, среди своих, вдали от суеты воспитывать дочь. Но она была неисправимой оптимисткой. Всю жизнь она провела в борьбе, и теперь не собиралась сдаваться, к тому же она просто обожала свою малышку. «C’est mon bоnheur, mes delices, mon existence» [5] Это мое счастье, моя радость, моя жизнь (фр.).
, — заявила она; крошка должна быть воспитана, как английская принцесса, во что бы то ни стало. Принц Леопольд выступил с благородным предложением повысить содержание до 3000 фунтов стерлингов в год, и герцогиня осталась в Кенсингтоне.
Девочка была чрезвычайно упитанной и поразительно походила на своего дедушку. «C’est l’image du feu Roi!» [6] Ну, просто вылитый покойный король (фр.).
— восклицала герцогиня. «C’est le Roi Georges en jupons» [7] Король Георг в юбках (фр.).
, — вторили окружающие леди, когда маленькое создание с трудом ковыляло от одной из них к другой.
Прошло не так уж много времени, и мир начал проявлять легкий интерес к происходящему в Кенсингтоне. Когда в 1821 году вторая дочь герцогини Кларентийской, принцесса Элизабет, умерла, не прожив и трех месяцев, интерес еще более возрос. Казалось, вокруг королевской колыбели незримо пришли в движение могучие силы и неистовые противоречия. Это было время враждующих фракций и злости, жестоких репрессий и глубокого недовольства. Мощное движение, долго сдерживаемое неблагоприятными обстоятельствами, распространилось теперь по всей стране. Повсюду бурлили новые страсти и новые желания; точнее, старые страсти и старые желания расцвели с новой силой: любовь к свободе, ненависть к несправедливости, надежда на будущее. Правители все еще гордо восседали на тронах, одаривая своей древней тиранией; но во тьме рождалась буря, и уже были видны отблески первых молний. Но даже величайшие силы приводятся в движение слабыми человеческими существами; и в течение многих лет казалось, что все великие идеалы английского либерализма зависят от жизни маленькой девочки в Кенсингтоне. Она одна стояла между страной и своим ужасным дядей, герцогом Кумберлендским, отвратительным воплощением реакции. Неизбежно герцогиня Кентская примкнула к партии своего мужа. Вокруг нее стали собираться предводители Вигов и агитаторы радикалов. Она была близка с самоуверенным лордом Дурхемом и была на дружеской ноге с самим О’Коннелом. Она приняла у себя Уильберфорса — правда, во избежание кривотолков не предложила ему присесть. Она публично заявила, что верит в «освобождение народа». Не вызывало сомнений, что молодая принцесса будет воспитываться соответствующим образом, однако позади трона затаился, выжидая, коварный герцог Кумберлендский. Брухем, заглядывая в будущее с присущим ему цинизмом, предвидел самые отвратительные последствия. «Никогда я так не молился за принцессу, как сейчас», — написал он, узнав о болезни Георга IV. «Если он уйдет, то вместе с ним уйдут и все неприятности этих негодяев [министров от партии Тори], и в обмен на его жизнь они получат своего собственного Фреда I [герцога Йоркского]. Впрочем, он [Фред I] тоже долго не протянет; у этого принца Блекгардского, „Брата Уильяма“, нелады со здоровьем, так что мы естественным образом будем захвачены королем Эрнстом I или регентом Эрнстом [герцогом Кумберлендским]». Такие мысли были вполне естественны для Брухема; в условиях всеобщего возбуждения они постоянно всплывали на поверхность; и уже за год до ее вступления на престол радикальные газеты были полны предположений, что против принцессы Виктории строит козни ее ужасный дядя.
Однако эхо этих конфликтов и дурных предсказаний не достигало маленькой Дрины — так ее называли в кругу семьи, — и она продолжала играть с куклами, носилась по коридорам или каталась на ослике, подаренном ей Йоркским дядей, по аллеям Кенсингтонского сада. И няньки, и фрейлины, и сестра Феодора просто обожали светловолосую, голубоглазую девочку, и в течение нескольких лет ей ничто не угрожало, несмотря на утверждения матери, что ее портят чрезмерной заботой. Временами она могла страшно рассердиться, топала ножкой и не считалась ни с кем; несмотря ни на какие уговоры, она не будет учить буквы — нет, не будет, потом она раскаивалась, плакала, но буквы так и оставались невыученными. Когда ей исполнилось пять, на сцене появилась фройлен Лейзен, и наступили перемены. Этой леди, дочери ганноверского священника и бывшей гувернантке принцессы Феодоры, очень скоро удалось изменить характер своей подопечной. В начале, впрочем, она была напугана вспышками ярости маленькой принцессы; ни разу в жизни, по ее словам, она не встречала столь капризного и непослушного ребенка. Но потом она заметила другое: девочка была чрезвычайно правдивой; какие бы наказания ей ни грозили, она никогда не лгала. Будучи весьма строгой, новая гувернантка, однако, понимала: никакие наказания не помогут, если ей не удастся завоевать сердце маленькой Дрины. И когда это удалось, все трудности остались позади. Дрина с удовольствием выучила алфавит и многое другое. Баронесса де Спат научила ее делать картонные коробочки и украшать их мишурой и нарисованными цветами, мать учила ее богословию. Каждое воскресное утро девочку можно было видеть сидящей на церковной скамье и с неподдельным вниманием слушающей бесконечную проповедь священника, ибо днем ей предстояло пересказать услышанное. Герцогиня была уверена, что ее дочь с малых лет должна самым достойным образом готовиться к своему будущему высокому положению. Ее немецкий рационализм не выдерживал откровенной беззаботности, царившей в Карлтон Хаусе. Дрина ни на миг не должна забывать о таких добродетелях, как простота, размеренность, пристойность и преданность. Впрочем, маленькая девочка не так уж и нуждалась в этих уроках, поскольку от природы была простой и собранной, была набожной и обладала острым чувством благопристойности. Она прекрасно осознавала тонкие особенности своего положения. Когда в Кенсингтонский дворец была привезена своей бабушкой шестилетняя леди Джейн Эллис, ей разрешили играть с принцессой Викторией, которая сама была того же возраста. Юная посетительница, не знакомая с этикетом, принялась раскладывать игрушки по полу и делала это слишком фамильярно. «Оставь их, — тут же сказала принцесса, — они мои; и я могу называть тебя Джейн, но ты не должна звать меня Викторией». Чаще принцесса играла с Викторой, дочерью сэра Джона Конроя, мажордома герцогини. Девочки просто обожали друг друга и часто гуляли в Кенсингтонском саду, взявшись за руки. Но маленькая Дрина прекрасно понимала, кого из них сопровождает, держась на почтительном расстоянии, громадный лакей в алой ливрее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу