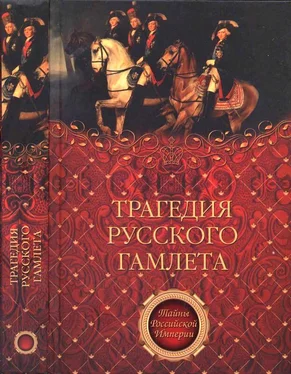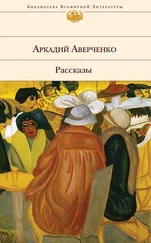Почести и звания, которыми государь его осыпал, доставили ему, весьма естественно, горьких завистников, которые следили за каждым его шагом и всегда готовы были его ниспровергнуть. Часто приходилось ему отвращать бурю от своей головы, и ничего не было необычайного в том, что в иные недели по два раза часовые то приставлялись к его дверям, то отнимались. Оттого он должен был всегда быть настороже и только изредка имел возможность оказывать всю ту помощь, которую внушало ему его сердце. Собственные благоденствие и безопасность были, без сомнения, его первой целью, но в толпе дюжинных любимцев, коих единственной целью были их собственные выгоды и которые равнодушно смотрели, как все вокруг них ниспровергалось, лишь бы они поднимались все выше и выше, можно за графом Паленом признать великой заслугой то, что он часто сходил с обыкновенной дороги, чтобы подать руку помощи тому или другому несчастному.
Везде, где он был в прежние времена, генералом ли в Ревеле или губернатором в Риге, его все знали и любили как честного и общественного человека. Даже на вершине своего счастья он не забывал своих старых знакомых, не переменился в отношении к ним и был полезен, когда мог. Только однажды, когда я был с ним совершенно один у императора, мне показалось в первый раз, что и он мог притворяться точно так, как самый гибкий царедворец. Это было при следующих обстоятельствах.
Очень рано поутру [167] 16 декабря 1800 г. Das merkw. Jahr, т. 2, где Коцебу передает это обстоятельство с большими подробностями.
граф потребовал меня к себе; но так как подобное приглашение к военному губернатору обыкновенно имело страшное значение и ничего доброго не предвещало, то, дабы успокоить меня и жену мою, он имел предупредительность присовокупить, что нет ничего неприятного в том, что имеет мне сказать. Немало я изумился, когда с лицом, скрывавшим насмешку под видом веселости, он объявил мне, что император избрал меня, чтобы от его имени послать через газеты воюющим державам вызов на поединок. Сначала я не понял, в чем дело; но, когда оно было мне растолковано, я просил, чтобы меня отпустили домой для составления требуемой статьи. «Нет, — сказал граф, — это должно бьггь сделано немедленно. Садитесь и пишите». Я это исполнил. Сам он остался возле меня.
Конечно, нелегко было, под впечатлением столь неожиданной странности, написать что-либо удовлетворительное. Два проекта не удались. Граф нашел, что они написаны были не в том духе, которого желал император и которым я, разумеется, не был проникнут. Третий проект показался ему сносным. Мы поехали к императору. Граф вошел сперва один в его кабинет, потом, вернувшись, сказал мне, что проект мой далеко не довольно резок, и повел меня с собой к императору.
Эта минута — одно из приятнейших моих воспоминаний. До сих пор она мне живо представляется. Государь стоял посреди комнаты. По обычаю того времени, я в дверях преклонил одно колено, но Павел приказал мне приблизиться, дал мне поцеловать свою руку, сам поцеловал меня в лоб и сказал мне с очаровательной любезностью: «Прежде всего нам нужно совершенно помириться».
Такое обращение с одним из последних его подданных, с человеком, которого он безвинно обидел, конечно, тронуло бы всякого, а для меня оно останется незабвенным.
После того зашла речь о вызове на поединок. [168] Статья (редакция самого Павла, см. Das merkw. Jahr, т. 2) переведена была нашим автором на немецкий язык и напечатана в «Гамбургском Корреспонденте» 16 января 1801 г. Потом она появилась одновременно в русских и немецких «С.-Петербургских Ведомостях» 19 февраля 1801 г., наконец в «Московских Ведомостях» 27 февраля 1801 г. Относительно этой статьи можно сравнить: Русский Архив 1870 г., с. 1960–1966 (рассказ Коцебу), Русский Архив 1871 г., с. 1095, и Архив князя Воронцова, кн. И, с. 379.
Император, смеясь, сказал графу, что избрал его в свои секунданты; граф в знак благодарности поцеловал государя в плечо и с лицемерием, которого я за ним не подозревал, стал одобрительно рассуждать об этой странной фантазии. Казалось, он был вернейшим слугой, искреннейшим другом того, которого несколько недель спустя замышлял свергнуть с престола в могилу. Признаюсь, что, если бы в эту минуту я вошел в кабинет государя с намерением его убить, прекрасная, человеческая его благосклонность меня немедленно обезоружила бы.
Еще глубже проникся я этим чувством в другой раз, когда, призвав меня после обеда, он приказал мне сесть напротив себя и тут наедине стал непринужденно разговаривать со мной, как со старым знакомым. Во время разговора, конечно, в моей власти было испросить себе явные знаки его милости; император, по-видимому, того и ожидал и предоставлял к тому повод. Сознаюсь, во мне мелькнула мысль воспользоваться этим случаем для моей жены и детей; но какое-то внутреннее чувство меня остановило; я хотел, чтобы воспоминание об этом дне осталось совершенно чистым, — и промолчал. О, зачем каждый не мог хоть однажды видеть его так, как я его видел, исполненным человеческих чувств и достоинства! Чье сердце могло бы для него остаться закрытым!
Читать дальше