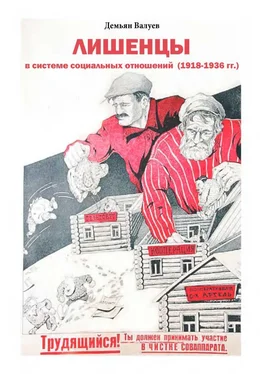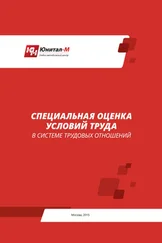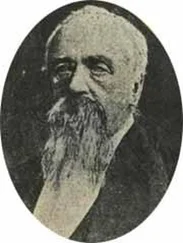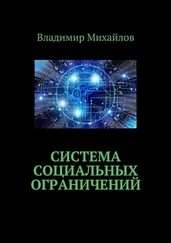К началу 1930 г. в школах второй ступени Западной области обучалось 22 647 человек, из них 524 или 2,4 % были детьми лишенцев [272]. Таким образом, количество школьников, происходивших из подобных семей лиц лишённых прав голоса, было невелико. Тем не менее, в некоторых школах второй ступени было много «социально чуждых». Наибольшей «засорённостью» отличалась Почепская школа Клинцовского округа. В ней в начале 1930 г. было «батраков — 1, бедняков — 2, а детей лишенцев, чужаков — 89» [273]. В школах Износковского района ещё в 1929 г. дети лишенцев — «попов, кулаков и прочей нечисти» составляли 5 % от общего числа учащихся [274].
В феврале 1930 г. постановлением президиума Западного облисполкома была введена плата за обучение в средних и начальных учебных заведениях. При этом если в городах за образование своих детей должны были платить все граждане, то на селе плата за обучение устанавливалась «лишь для лиц, живущих на нетрудовой доход (занимающихся торговлей или владеющих промышленными предприятиями), а также тех лиц, занимающихся сельским хозяйством или промыслами, которые лишены избирательных прав, и служителей религиозных культов» [275].
Некоторое облегчение учащимся лишенцам принесло постановление ЦИК от 26 февраля 1930 г. Оно запрещало исключать детей лишенцев из школ или не принимать их в дошкольные начальные и средние учебные заведения, взимать с них повышенную плату за обучение [276]. В постановлении ЦИК СССР от 22 марта о борьбе с нарушениями избирательного законодательства также предлагалось ликвидировать практику исключения детей лишенцев из школ [277]. Эти меры были восприняты многими гражданами как явное свидетельство либерализации политического режима. Известный писатель М. М. Пришвин записал в своём дневнике 2 марта 1930 г.: «Вчера было напечатано распоряжение о том, чтобы в средних школах не мучили детей лишенцев за их лишенство. Так резко выделялись эти строки среди человеконенавистнических, что все это заметили, и все об этом говорили» [278]. Но уже вскоре, как отмечает Ш. Фицпатрик, «наркоматы просвещения России и Украины обнаружили, что местные власти просто-напросто игнорируют их инструкции, запрещающие проводить чистки в школах» [279]. В ходе этих чисток из школ по прежнему в первую очередь изгонялись дети граждан, лишенных избирательных прав.
Лишение избирательных прав для городского жителя, влекло за собой ряд существенных бытовых ограничений. В первую очередь это касалось жилищных условий. В эпоху военного коммунизма регулярно проводились кампании по выселению «паразитических и эксплуататорских элементов» из их жилищ. Под это определение чаще всего подпадали представители буржуазии, бывшие чиновники и священнослужители, которые не имели избирательных прав по Конституции. Тем не менее, отсутствие у человека права голоса само по себе ещё не было определяющим фактором при решении вопроса о правомерности обладания им данной жилплощадью. Основы советской жилищной политикой сложились к середине 1920-х гг. В постановлении ЦИК СССР «О жилищной кооперации» от 19 августа 1924 г. указывалось, что членами жилищно-арендных кооперативных товариществ, рабочих и общегражданских жилищно-строительных кооперативных товариществ могут быть только граждане обладающие избирательными правами. При этом утрата таковых прав автоматически влекла за собой «выбытие из состава товарищества». Арендно-кооперативному товариществу предоставлялось право пользоваться всей площадью домовладения, в границах которого оно было создано. Оговаривалось, что «остающаяся за распределением между членами жилищного товарищества часть жилой площади, а также нежилая площадь, могут сдаваться лицам, не имеющим права быть членами жилищного товарищества» т. е. лишенцам. Члены рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества, в случае лишения их избирательных прав, вслед за изгнанием их из товарищества утрачивали и «права на занимаемые ими помещения». Деньги, которые они ранее вносили в счёт пая, подлежали «возвращению за вычетом части, падающей на амортизацию находившейся в их пользовании площади». Жилищно-кооперативные товарищества всех видов могли объединяться в единые городские и губернские союзы жилищной кооперации. Органами управления союзов являлись собрания уполномоченных. Занимать эту должность могли только граждане, обладающие избирательными правами [280].
Наступление на жилищные условия лишенцев продолжалось во второй половине 1920-х гг. По постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 1 августа 1927 г. все граждане получали право на «самоуплотнение». В соответствии с ним владельцы или съёмщики жилья могли вселить на излишки своей площади любого человека. Излишками считалась площадь, превышавшая санитарную норму — 8 кв. м. на одного человека. Вселившийся жилец получал право на занимаемую им площадь. Данное право необходимо было реализовать в течение трёх недель. Затем вопрос о «самоуплотнении» передавался на разрешение домоуправлению. Кроме того, он находился под постоянным контролем со стороны районных советов и органов милиции. Как отмечает Н. Б. Лебина, исследовавшая советскую жилищную политику 1920–30-х гг.: «„самоуплотнению“ в первую очередь подверглась категория „лишенцев“» [281]. В апреле 1929 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление об ограничении проживания в муниципальных и национализированных домах и о выселении бывших домовладельцев из этих домов. К середине лета 1929 г. «людям подлежащим выселению представители домоуправлений вручили извещения о необходимости освободить жилую площадь. В случае отказа подчиниться постановлению выселение происходило административным путём» [282]. При проведении выселения решающим фактором являлось, то, что гражданин был лишён избирательных прав за торговлю, эксплуатацию наемного труда, нетрудовые доходы или за принадлежность к духовному сословию. Определенные надежды у лишенцев, изгоняемых из жилья, вызвало постановление ЦИК СССР от 22 марта 1930 г., в котором местным властям предлагалось среди прочего прекратить выселение граждан, не имеющих права голоса из квартир [283].10 апреля 1930 г. подобное же постановление принял и Президиум ВЦИК [284].
Читать дальше