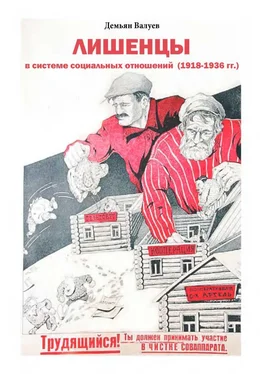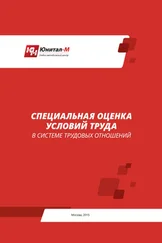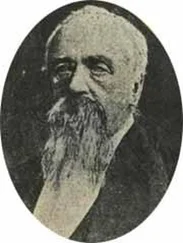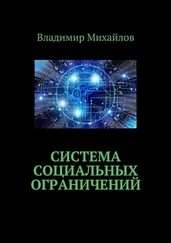Председатель Верховного суда РСФСР, один из ведущих советских юристов П. И. Стучка в работе, посвященной основам Конституции, объяснял, что „пока не уничтожены классы и не все граждане Республики перешли в класс трудящихся, другие классы (эксплуататорские, нетрудовые) не допускаются ни в один из органов власти. Но сверх того, руководствуясь интересами класса трудящихся в целом, РСФСР вправе лишить отдельные группы или отдельных лиц прав, которыми они пользуются в ущерб интересам социалистической революции“ [118]. Далее говоря об устройстве избирательной системы, он указывал, что „советская система избирательного права привлекает к участию в выборах, по общему правилу, всех трудящихся, если они не являются одновременно эксплуататорами и лишает избирательных прав всех эксплуататоров, хотя бы они и сами были трудящимися“ [119] .
Очередная избирательная кампания в Советском Союзе прошла в конце 1928 — начале 1929 гг. Союзное и республиканское руководство не стали издавать новые законодательные акты, а переиздали инструкции 1926 г., включив в них многочисленные дополнения и разъяснения. Эти дополнения и разъяснения преследовали только одну цель — дальнейшее расширение круга лиц, лишенных избирательных прав, главным образом за счёт зажиточного крестьянства, что было непосредственно связано с начинавшейся коллективизацией и политикой „ликвидации кулачества как класса“.
Избирательная кампания 1928/29 гг. вновь продемонстрировала явное стремление местных властей к увеличению числа лишенцев. Неясность и запутанность целого ряда формулировок избирательной инструкции предоставляла им для этого широкие возможности. Как и в предыдущие выборы в центральные руководящие органы хлынул с мест мощный поток жалоб на необоснованное лишение избирательных прав и ходатайств о восстановлении в правах голоса. ЦК партии и правительство вынуждены были реагировать. В начале января 1929 г. в местные партийные организации было разослано письмо ЦК, в котором говорилось о необходимости „обеспечить правильное проведение установленных советской властью ограничений при выборах в отношении эксплуататорских элементов“. Одновременно с этим руководство ВКП (б) обязывало местные организации „обратить особое внимание на недопустимость распространения ограничений на середняка и на необходимость немедленного устранения допущенных в этой области извращений“ [120]. В циркуляре ВЦИК от 7 января 1929 г. посвященном устранению недочётов в организации избирательной кампании констатировалось, что „в процессе подготовительных работ к перевыборам Советов обнаружилось, что в некоторых местах расширительно толкуются предусмотренные избирательной инструкцией… ограничения, вследствие чего неправильно лишаются избирательных прав крестьяне-середняки“. Президиум ВЦИК потребовал от местных Советов и избирательных комиссий „отнюдь не ослабляя классовой линии по борьбе с кулачеством во время избирательной кампании, немедленно исправить все допущенные по отношению к крестьянам — середнякам ошибки, восстановив в избирательных правах неправильно лишенных таковых и всемерно привлекая середняка к активному участию в перевыборах в Советы“ [121].
В циркуляре ВЦИК от 6 марта 1929 г. говорилось о том, что по поступающим с мест сведениям „избирательные комиссии и исполнительные комитеты, несмотря на постановления Президиума ВЦИК, коими те или иные лица восстановлены в избирательных правах, вторично включают таких лиц в списки лишенных избирательных прав по прежним основаниям“. Далее указывалось, что включение снова подобных граждан в разряд лишенцев „может производиться местными исполнительными комитетами и Советами или избирательными комиссиями только в тех случаях, когда для этого имеются какие-либо новые, неизвестные ранее основания“ [122]. При этом вопросы о лишении избирательных прав по прежним основаниям могли возбуждаться местными исполкомами только в форме ходатайств в Президиум ВЦИК о пересмотре соответствующих постановлений.
Но, несмотря на все предупреждения и требования центральных властей, количество лишенцев продолжало достаточно быстро увеличиваться. Нередко желая получить высокий процент лишенцев, местные власти устраняли граждан от участия в выборах „по самым разнообразным непредусмотренным инструкцией поводам“. В списки лиц, лишенных избирательных прав вносились „нищие, больные, старики свыше 60 лет, пьяницы, картёжники, „бузотёры“, гадалки и т. д.“. Даже в столице было отмечено немало случаев лишения прав голоса по незаконным и совершенно нелепым причинам. Среди оснований лишения избирательных прав тех или иных москвичей значились и такие: „„мать высланного хулигана“, „брат бывшей торговки“, „член семьи умалишенного“, „родственник находящегося под арестом в ОГПУ“, „бывший кустарь без наёмного труда“, „ломовой извозчик“, „изобретатель““.
Читать дальше