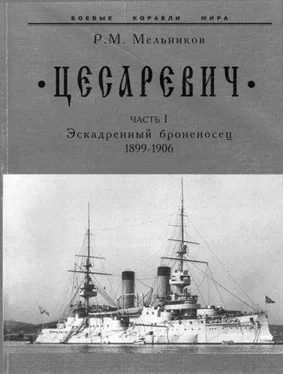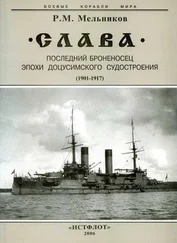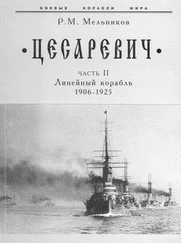Прозревший, наконец, наместник добился его незамедлительного смещения. По решению генерал-адмирала от 14 августа князя назначили "в распоряжение" наместника, а командовать эскадрой поручили капитану 1 ранга Р.Н. Вирену (1856–1917) с производством его в контр-адмиралы. Но и в этом назначении режим фантастически промахнулся. Недавний боевой командир "Баяна", создавший своему кораблю такую рекламу, что потерявший голову царизм поспешил по его образцу заказать еще три подобных, Р.Н. Вирен проявил себя (что он и ранее не скрывал) столь же "принципиальным" крепостным оборонцем, готовым продолжать дело бесталанного князя.
Его назначение со всех точек зрения было столь же нелепо, как и происходящее на наших глазах до недавнего времени назначение невесть откуда взявшихся чиновников на руководящие посты в правительстве России. В догадках о произошедшем с Р.Н. Виреном "затмении" терялся единственный сторонник выхода эскадры в море Н.О. Эссен. Высказавшись категорически против каких-либо попыток прорыва на совещании, которое 6 августа успел провести князь Ухтомский, новый командующий уже через неделю после вступления в должность (князь ему свои полномочия уступил 24 августа) высказал свою концепцию ведения войны. Коротко говоря, это была декларация о полной несостоятельности нового командующего как флотоводца. Словно и не было заветов великих флотоводцев прошлого и блестящей, так быстро начавшей давать весомые результаты школы С.О. Макарова. Р.Н. Вирен обстоятельнейшим образом доказывал, что ни прорваться, ни победить японцев он не может.
Уверяя в донесении наместнику (он же был и главнокомандующий) от 2 сентября, что все его "мысли и стремления" направлены к выполнению данных предначертаний и "высочайшей воли" (с повторением директивы о прорыве), новый начальник в самых мрачных тонах рисовал сценарий заведомо и со всех сторон безнадежного исхода боя с превосходящим в силах и скорости противником. Никаких путей и вариантов тактики, которые позволяли бы компенсировать японское превосходство, даже не упоминалось. Новоиспеченный адмирал, который не участвовал в бою 28 июля, ни в чем не пытался опереться на богатейший боевой опыт, который вынесли из боя командиры и офицеры теперь уже обстрелянных кораблей.
Невнятной остается в истории и роль почему-то упорно остававшегося в стороне командующего флотом в Тихом океане вице-адмирала Н.И. Скрыдлова (1844–1918). Командуя эскадрой до войны, он почему-то ни сам (после назначения командующим флотом 1/14 апреля 1904 г.) не спешил пробраться в Порт-Артур, ни считал нужным поручить это назначенному командующим 1-й эскадрой флота Тихого океана вице-адмиралу П.А. Безобразову (1845–1905). Он, видите ли, не считал возможным подвергать такой рискованной операции имевшего слишком уже будто бы почтенный возраст (59 лет) адмирала.
Опыт австрийского фельдмаршала Радецкого (1766–1860), который свою самую блестящую победу одержал в возрасте 82 лет, русскому адмиралу известен, видимо не был. Дело, как говорят некоторые сведения, объяснялось проще: давними неладами в отношениях с наместником. И не потому ли в ответ на директиву наместника от 14 октября о необходимости прорыва командующий флотом 29 октября высказал полное согласие с позицией Р.Н. Вирена.
К их позиции, что уже и вовсе непостижимо, вдруг присоединился и сам наместник. Произошло это 5 ноября 1904 г., когда он, смещенный с должности главнокомандующего, отбыл из Мукдена в Петербург. Сдав дела по командованию, он счел себя вправе сдать и принципиальную позицию о необходимости прорыва кораблей из гибельной, как уже было совершенно очевидно, ловушки Порт-Артура. Так избранные императором "флотоводцы" наперебой "сдавали" флот, который для них был не делом чести и совести, а всего лишь разменной картой в мелкой игре интриг и амбиций.
После таких индульгенций триумвират "пещерных адмиралов" (Лощинский, Вирен, Григорович) уже без оглядки начал разбазаривать флот. На берег отдавали новые и новые орудия и боеприпасы для крепостных орудий, свозились на позиции новые и новые десантные отряды. Моряки сражались так же доблестно и героически, как и их предки на бастионах Севастополя, но никакой героизм на суше не мог заменить действий флота в открытом море. Никто почему-то не хотел задуматься над тем, что все собранные на позициях и батареях фронта машинисты и кочегары, комендоры и сигнальщики, минеры и гальванеры, вернись они к своим постам на кораблях, могли бы оказать крепости пользу во сто крат большую. Ту самую, которую тщетно ожидали от них оказавшиеся более военно-образованными генералы крепости.
Читать дальше