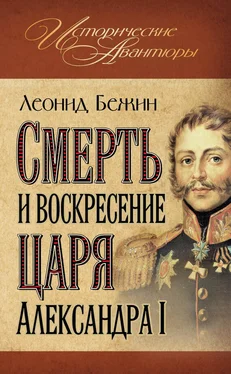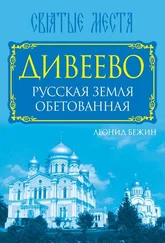Я представляю, как он стоит, опершись о камин: излюбленная поза, придающая картинность осанке и, что не менее важно, позволяющая скрыть хромоту, ведь он – хромой бес, Талейран, как его называют. В чертах лица – и чопорность, и надменность, и показная небрежность к чужому мнению, и притворная голубиная кротость, покорность судьбе, изображаемая иногда с большим искусством, и затаенная цепкость, нацеленность на добычу – то, что выдает в нем хищника. Да, он корыстен, но надо отдать ему должное: корыстен, как артист, не позволяющий себе взять неверную ноту или… сумму (нота и сумма в данном случае одно и то же), если это противоречит благу Франции. Благо Франции для него превыше всего! Благо не того, кто ею правит, будь он король, член революционного Конвента или император, а именно Франции, право же решать, что для нее благо, а что нет, Талейран раз и навсегда присвоил себе. Ибо у Франции второго такого нет: он – единственное воплощение. Воплощение французского остроумия, сарказма, галантности, гедонизма, сладострастия, гурманства – всего-всего-всего! Поэтому правители сменяются, а он остается.
Он всегда есть, Шарль Морис Талейран, и в этом сравнился со своим извечным соперником министром полиции Фуше. Тот – тоже воплощение, но воплощение педантичности, сухости, способности к скрупулезной работе: словно крот выкапывает он во все стороны свои норы. Сотни агентов, тысячи донесений, и в результате Фуше знает все, что происходит во Франции. В этом он незаменим и для короля, и для Конвента, и для императора. Но все равно при этом он, потомок моряков и купцов, всегда будет служакой, поднявшимся из низов, Талейран же и по происхождению, и по духу – аристократ, благородная кость. Он не любит корпеть над бумагами, составлять подробные отчеты, но зато одной отточенной фразой способен сплотить вокруг себя союзников, убедить несогласных, сразить любого врага. Поистине он гений подобных фраз, Талейран. Его ум так устроен, что все, подсказанное ему чутьем, он не обдумывает основательно со всех сторон, не выстраивает в длинную цепь аргументов, а выражает одной броской репликой, одним блестящим афоризмом. И на какую бы аудиенцию он ни шел, какие бы переговоры ни вел, с кем в кулуарах ни шептался, он всегда уверен, что вовремя скажет самое нужное, и скажет так, что эту фразу будут потом повторять и от современников она перейдет к потомкам.
Вот и императору Александру он в Эрфурте сказал, встретившись с ним втайне от Наполеона: «Французский народ цивилизован, а его государь нет. Русский государь цивилизован, а его народ нет. Следовательно, русский государь должен стать союзником французского народа». Фраза поистине блестящая, и весь ее блеск в том, что при внешней логичности она, казалось бы, лишена всякой логики. Особенно замечательно в ней словечко – «следовательно», показатель безупречной логической конструкции. Но оно-то тотчас и провоцирует вопрос: позвольте, позвольте, а каким это образом русский государь может стать союзником французского народа? С какой стати? Ведь у него есть собственный, пусть недостаточно цивилизованный, но – император. Вот тут-то обнаруживаются дьявольская проницательность, способность предвидения и далеко идущий расчет Талейрана: он еще тогда, в Эрфурте, когда Наполеон был на вершине славы, повелевая раболепствующими перед ним европейскими монархами, почувствовал всю обреченность его политики, непрочность созданной им гигантской империи (а когда такие империи были прочны?!) и близость неизбежного краха. Поэтому и фраза его лишена – и совсем не лишена логики. Она лишь нуждается в дополнении, выраженном осторожным намеком: да, русский государь может стать союзником французского народа, если… если ему в этом поможет он, вездесущий Талейран. Тут возможен еще более недоуменный вопрос: но ведь Талейран – министр иностранных дел при дворе Наполеона, хотя и временно отстраненный от дел (но Наполеон взял его на переговоры). А Александр в данный момент если и не его открытый противник (как при Аустерлице), то весьма ненадежный союзник – как же в таком случае расценивать предложенную Талейраном помощь? На этот вопрос можно ответить с дипломатической уклончивостью: ну, знаете ли… И ничего не добавлять. Есть слова, которые в подобных случаях произносить не обязательно, и одно из них – предательство.
Собственно, Талейран давно уже начал предавать Наполеона и по существу вел с ним искуснейшую двойную игру: подглядывал в его карты, не показывая своих. Наполеон о многом знал (ему, конечно, доносили), о еще большем догадывался, и Талейран за свое предательство был награжден однажды публичной пощечиной: император в приступе бешенства назвал его навозом в шелковом мешке. Тоже, надо признать, фраза! Талейран с достоинством и свойственной ему невозмутимостью снес оскорбление и после этой сцены выразил лишь сожаление по поводу того, что великий человек так дурно воспитан. Наполеон мог бы арестовать его, бросить в тюрьму, даже расстрелять, но он этого не сделал. Не сделал даже не потому, что Талейран был ему нужен, а потому, что знал: он таков и не может быть иным. Вот и приходится с этим считаться, мириться – называть можно как угодно, но суть остается одна: Талейран – это Талейран. И Наполеон, смирив свой гнев, признал силу этого обстоятельства. Талейран же ему отомстил своим новым предательством, и отголосок мести слышится в язвительных, напитанных ядом словах о недостаточно цивилизованном государе столь цивилизованного народа.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу