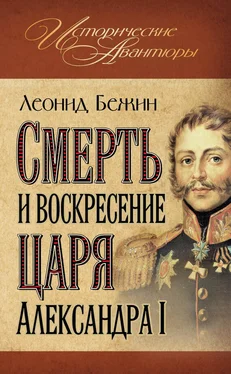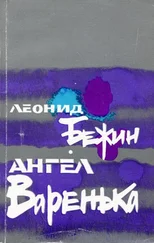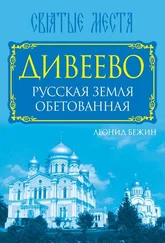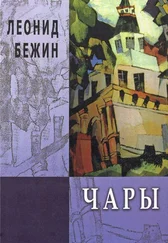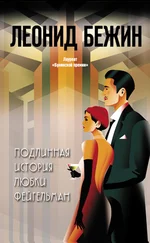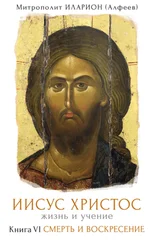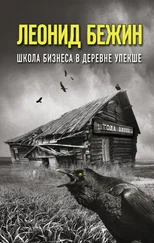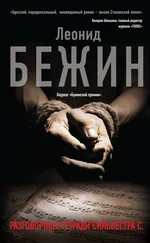Из Алексеевского монастыря я спешу на поиски Монастырской улицы. Собственно, это должно быть просто: Монастырская, – значит, где-то рядом, в двух шагах от монастыря. Уж не эта ли, именуемая теперь улицей Крылова? Очень похожа – как раз подводит к главным воротам. Другой похожей поблизости нет, и это сначала склоняет меня к догадке, а затем и убеждает, что удалось найти улицу, где жил почтенный, всеми уважаемый купец Хромов, а у него во дворе – особняком, в маленькой келье – старец Феодор Козьмич. И жил и умер на этой улице, – конечно же, я несколько раз прошел ее из конца в конец. Прошел, осмотрел, изучил, стараясь представить, как со скрипом открывалась калитка в глухих воротах и из нее высовывался цепной дворовый пес, любивший угрожающе рыкнуть, заливисто залаять на прохожих. А затем, опираясь о палку, выходил белобородый старик, одетый в длинную белую рубаху, и направлялся к Алексеевскому монастырю, откуда доносился колокольный звон, созывавший прихожан на службу.
Да, со скрипом открывалась (я даже словно бы слышал этот протяжный скрип) – вот только где, в каком месте? В середине улицы или в конце? Я задавал себе эти вопросы, ожидая толчка некоей догадки, некоего интуитивного прозрения, которое указало бы точку в пространстве, откуда исходили незримые токи, – токи присутствия Феодора Козьмича, но прозрение меня не осеняло: слишком глубоко погребена была Монастырская улица под улицей Крылова. Лишь кое-где чернели потрескавшимися бревнами бывшие купеческие дома, в окнах цвела герань и виднелись медные шарики старинных кроватей, остальная же часть улицы напоминала некий архитектурный скелет со сломанными костями деревянных свай и торчащими ребрами бетонных конструкций.
Наверное, никто из жителей и не помнит, что когда-то здесь жили Хромовы. Наивно было бы и надеяться. На всякий случай я спросил у проходившей мимо пожилой, чем-то озабоченной женщины, не скажет ли она, как эта улица называлась раньше и знакома ли ей фамилия Хромовых. Спросил, и мне повезло: женщина оказалась потомственной жительницей Томска и сразу же ответила, что улица называлась Монастырской, а Хромовы – одна из известнейших купеческих фамилий. Вот только где находился дом Семена Феофановича, она точно не знает, хотя слышала, что поблизости. Может быть, в конце, может быть, в середине, – словом, неподалеку.
Этот ответ меня воодушевил и ободрил: значит, предание сохраняется и в памяти нынешних жителей улицы Крылова не утрачены имена тех, кто жил на погребенной под нею Монастырской. Значит, не только в книгах можно встретить фамилию Хромовых, а вот, пожалуйста, – услышать от случайного прохожего! Воодушевленный, я решил продолжить расспросы, но на этот раз вместо потомственных жителей попадались те, кого занесло сюда шальным ветром, – кто приехал недавно, осел ненадолго и поэтому торопился пройти мимо, недоуменно, даже отчасти неприязненно пожав плечами: Хромовы? Извините, никогда не слышали…
Вот тогда-то я и надумал заглянуть в редакцию местной газеты: а вдруг они мне укажут точку, откуда исходят незримые токи. Надумал, признаться, неспроста: в библиотеке мне сказали, что в газете была заметка о Феодоре Козьмиче, предполагаемом месте его захоронения и о тех, кто умеет улавливать незримые токи с помощью лозы и вертящейся рамки, – рудознатцах и кладоискателях, исследовавших территорию монастыря. Эту заметку я и хотел (изнывал от нетерпения) прочесть, а заодно и поговорить с сотрудниками газеты: журналисты народ ушлый, бывалый, чем-нибудь да помогут, наведут на след.
Встретили меня очень приветливо и обходительно: предмет моих интересов у всех вызывал живейший отклик. Встретили, усадили за стол, принесли годовую подшивку газет, заварили крепкого чаю, всегда предлагаемого гостям, которых не приглашали, но которым рады. И я внимательно изучил заметку, прихлебывая чай из купеческой чашки с пунцовыми розами (почему-то хотелось думать, что – купеческая). Рудознатцы оплошали: строптивая лоза взбунтовалась совсем не на том месте, где могли скрываться останки Феодора Козьмича. Но в заметке меня заинтересовала полемика между здешним ученым мужем, сотрудником историко-архитектурного музея Николаем Серебренниковым и краеведом-энтузиастом Виктором Федоровым, который, видно, слишком уж страдальчески горел идеей доказать тождество двух личностей – Александра и старца Феодора. Страдальчески, жертвенно, мученически, а такие люди всегда многих отталкивали, меня же – притягивали, несмотря на соблазн потушить их огонь ссылками на факты и авторитетные мнения, которому и поддался его оппонент.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу