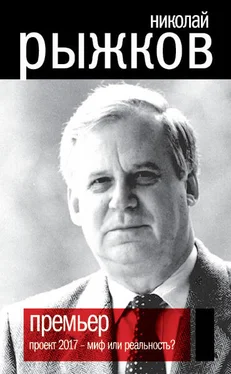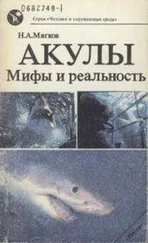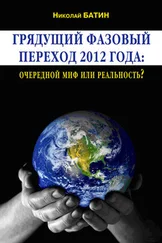Ну о нашей реформе спустя два года, когда экспорт продукции для упомянутых 20 ведомств и 60 объединений стал делом жизненно необходимым, привычным и прибыльным, мы решили наделить правом внешней торговли всех умеющих и желающих торговать. Но торговать только своей продукцией, товарами, услугами. Категорически было запрещено создание посреднических структур. Во всяком деле есть, как известно, две стороны медали. И, принимая какое-либо решение, надо всегда думать не только о положительном его действии, но и о возможных, а то и неизбежных издержках. Так оно и получилось. Отмена в дальнейшем, уже в «новые» времена, этого положения без достаточно глубокой проработки привела к созданию бесчисленных посредников. Недавно сообщалось, что на 25 предприятий, производящих минеральные удобрения, было 180 посредников. Мы же понимали опасность подобного развития, перекоса в сторону посредников, ничего не производящих, но хорошо зарабатывающих на этих операциях. Поэтому было принято решение: крупные объединения, имеющие опыт внешнеэкономической деятельности, выходят на зарубежный рынок самостоятельно; средние и мелкие — через преобразованные внешнеэкономические объединения Министерства внешнеэкономических связей (МВЭС). Таких объединений было более двадцати. Новое министерство создавалось путем слияния двух ранее существовавших ведомств — Министерства внешней торговли (МВТ) и Государственного Комитета экономического сотрудничества (ГКЭС).
В марте 89-го ввели систему лицензирования товаров, значительно подняли роль таможни, определили льготы для прибрежной и приграничной торговли. Словом, к концу 1990 года в стране получили право торговать с заграницей уже свыше 30 тысяч предприятий. Хотя, честно говоря, право-то они получили, но реально торговала едва ли половина: силенок пока было у них маловато.
С апреля 89-го начинало действовать правительственное решение о дальнейшем развитии внешнеэкономической деятельности государственных, кооперативных и иных организаций и предприятий. Была создана система регистрации желающих торговать, которую мы постарались сделать предельно простой.
Вспоминая сегодня наши тогдашние шаги, скажу, что видимая ошибка была одна: право на самостоятельное лицензирование получили около пятидесяти организаций. Много! Это неизбежно вело к плохой управляемости процессом вывоза, злоупотреблениям, к ущемлению прав республик, на территории которых находились запасы сырья или же предприятия, входившие в юрисдикцию Центра. Надо было создавать союзно-республиканский лицензионный комитет, который в своей политике учитывал бы интересы всех — и продавца, и государства, и территории. Мы над этим уже работали. Увы, не успели! Политика, как известно, и лицензирование развела по территориальным интересам.
Решением Правительства был установлен перечень из 80 наименований продукции, которую можно было продавать за рубеж только по специальному разрешению-лицензии. Предоставляя большие права предприятиям во внешней торговле, мы давали себе ясный отчет, что, при огромной разнице между внутренними и международными ценами, наши стратегические материалы и продукция как насосом будут перекачиваться за рубеж. А ведь задачей Правительства было в максимальной степени активизировать свою, а не чужую экономику.
Введение во внешнеэкономическую жизнь лицензирования вызвало резкую критику, особенно в средствах массовой информации. Этот шаг демагогически расценивался как наступление на принципы открытости экономики. Все это, конечно, инспирировалось теми, кто, не считаясь с проблемами и задачами отечественной экономики, преследовал отраслевые, ведомственные или даже личные интересы. Доводы, что наша только что начавшая реформироваться экономика не может быть сейчас полностью открытой и что экономическая демократия, как и вообще демократия, это есть поле, лежащее между недозволенностью и вседозволенностью, — не принимались во внимание.
Исходя из политических, а точнее — политиканских интересов, наши оппоненты упорно закрывали глаза и на мировую внешнеэкономическую практику. Скажем, Общий рынок Европы, о котором я вполне положительно говорил в этой книге, имеет четко отработанную систему лицензий и квот. Там они нередко устанавливаются в результате «экономических войн» между государствами — членами ЕЭС, с одной стороны, и между прочими странами — с другой. Войны — винная, рыбная, овощная, металлическая — сменяют друг друга. Ну а, скажем, уничтожение выращенных фруктов в Испании с целью выполнения установленных квот является лишь одним из многочисленных примеров строгого контроля за их выполнением внутри самого Сообщества.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу