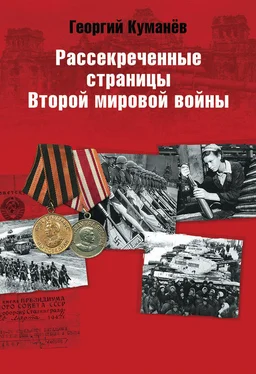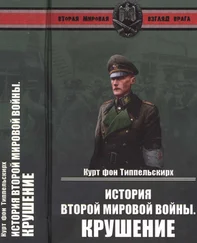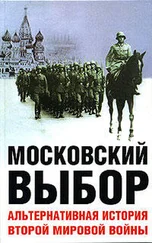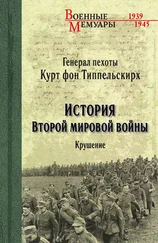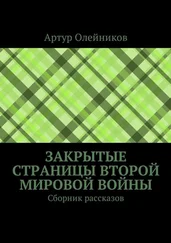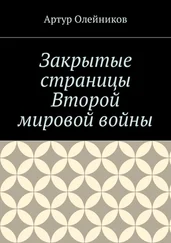Создается впечатление, что ныне все более настойчиво утверждается иная, прямо противоположная версия, претендующая на истину в последней инстанции. У объективных, беспристрастных исследователей не может не вызвать законного протеста то, что любую расходящуюся с ныне утверждаемой точку зрения (даже ту, которая признает лишь наличие колебаний у Сталина перед заключением советско-германского договора о ненападении) расценивают как «недопустимо догматическое заблуждение». В ряде статей и книг последних лет безапелляционно утверждается, что Сталин-де заранее нацелился на провал переговоров с Англией и Францией, рассчитывая тем самым не больше не меньше как… разжечь войну. Поэтому вину за развязывание войны несет Сталин, а не Чемберлен, не Даладье, даже не Гитлер. (Между прочим, нацистский фюрер накануне нападения на Польшу 1 сентября 1939 г. высказывал опасение, как бы «какая-нибудь свинья» не сорвала в последнюю минуту поход на Варшаву.)
Известно, что Гитлер не прерывал тайных переговоров с Англией и тогда, когда 31 марта 1939 г. Н. Чемберлен заявил о предоставлении военных гарантий Польше. Он вполне мог уповать на то, что Англия и Франция не решатся на реализацию этих гарантий, вновь дадут запугать себя угрозой коммунизма. Гитлер давно и прочно уверовал, что этим странам не особенно импонирует идея привлечь на свою сторону Советский Союз хотя бы потому, что Красная Армия, особенно после опустошительных репрессий 1937–1938 гг., по их мнению (его разделял и Гитлер), представляет собой всего лишь «колосс на глиняных ногах и к тому же без головы».
Распространено мнение, что в переговорах с Чемберленом Гитлер сумел обмануть этого «типа с зонтиком», как он его называл. Считается, что Мюнхенское соглашение — яркое тому доказательство. Более основательна, на наш взгляд, точка зрения, учитывающая, что положение, возникшее в результате предоставления Англией военных гарантий Польше (а также Румынии и Греции), больше напоминало гитлеровцам «цугцванг» — ситуацию вынужденного хода, при которой любой последующий ход оказывается плохим. К концу лета 1939 г. Гитлер не только не хотел, но и не мог отказаться от нападения на Польшу. Все приготовления были проведены, должен был последовать лишь сигнал. Гитлера уже не могла остановить даже угроза войны на два фронта, хотя кошмар такой неизбежно затяжной войны издавна преследовал германский Генеральный штаб.
В сложившейся ситуации Германия тем не менее должна была искать той или иной формы соглашения с СССР. В свою очередь нуждался в нем и Советский Союз, оказавшийся перед угрозой практически полной внешнеполитической изоляции. Пакт о ненападении был выгоден нам не меньше, чем Германии. Есть мемуарные свидетельства: не таил своего восторга после подписания пакта Гитлер, не был озабочен по этому же поводу и Сталин.
Характерно, что на Нюрнбергском процессе не возникало даже намека на подозрение, что подписание пакта явилось якобы результатом нечестной игры со стороны Советского Союза. И немудрено. Ведь подобные пакты имелись у Германии и с Польшей, и с Англией. Аналогичные соглашения заключались и другими странами.
Сам по себе пакт о ненападении от 23 августа 1939 г. вполне отвечал нормам дипломатии, являя собой попытку урегулировать столь сложный вопрос, как советско-германские отношения в до предела накалившейся на тот момент международной обстановке.
Совсем иное дело — секретные протоколы к пакту (равно как и секретные статьи последующего договора о дружбе и границе от 28 сентября 1939 г.). Сам факт их подписания с гитлеровской Германией ничем не может быть сколько-нибудь убедительно объяснен и оправдан. Эти документы не только сводили на нет все нравственные принципы, на которых после Октября 1917 г., пусть даже и формально, зиждилась внешняя политика Советского государства, но и подрывали сами основы как нормальной дипломатической практики, так и деятельности левых демократических сил во всем мире, остававшихся, по существу, единственными союзниками СССР. Как записала в те дни известная деятельница русского зарубежья Н. Берберова, «Сталин и Гитлер скрепили дружбу подписями и печатями… Мировому коммунизму нанесен удар тем же топором, что и буржуазной Европе» [11] Октябрь. 1991. № 8. С. 189.
.
Наши союзники по войне поддержали на Нюрнбергском процессе предложение не поднимать и не обсуждать какие бы то ни было вопросы об отношениях с немцами в канун войны. А. Ваксберг, ссылаясь на английского представителя в Международном военном трибунале лорда Х. Шоукросса, объясняет такую позицию тем, что наши соратники по оружию не хотели давать повод даже подумать о нарушении союзнической солидарности [12] Знамя. 1990. № 6. С. 131.
. Такие соображения, разумеется, имели место. Никому из наших союзников, как и советской стороне, действительно не хотелось давать военным преступникам возможность использования в своих целях союзнических разногласий — те явно этого жаждали. Но нельзя не сказать и о не менее существенной причине общего умолчания — скорее всего она состоит в том, что, как говорят англичане, «у каждого в дому в потайном шкафу был свой скелет».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу