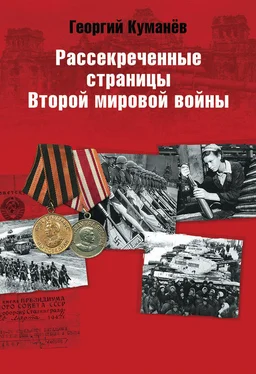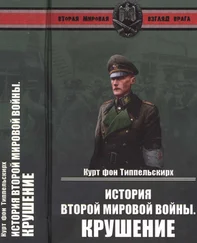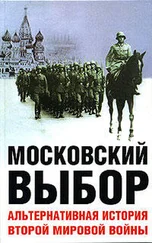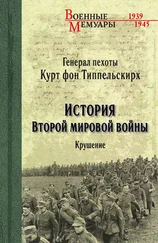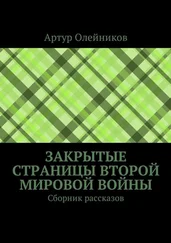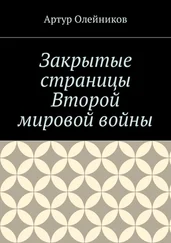Об этом свидетельствовал и другой советский полководец — маршал А. М. Василевский. «На первых порах войны, — говорил о Сталине Василевский, — он явно переоценивал свои силы и знания в руководстве войной, основные вопросы крайне сложной фронтовой обстановки пытался решать единолично, что нередко приводило к еще большему осложнению обстановки и тяжелым потерям…»
Конечно, очень трудно определить границы между тем, что Сталин удачно делал ради общих интересов защиты Советской страны и тем, что диктовалось его упрямством, непомерными амбициями и жаждой не только сохранения, но и дальнейшего расширения и укрепления своей и без того необъятной власти. Ему и в те первые, чрезвычайно тяжелые, дни и месяцы войны повсюду мерещились заговорщики, трусы, предатели, «пятая колонна», и он жестоко расправлялся, как правило, с мнимыми «врагами народа», находя их в первую очередь среди военных.
И все же, несмотря на жестокие поражения и крупные неудачи Красной Армии в летних сражениях сорок первого года, противнику не удалось тогда добиться конечной цели блицкрига… Более того, благодаря все возраставшему сопротивлению советских войск, крепнущему отпору, агрессор так и не смог в соответствии с планом захватить ряд жизненно важных центров СССР, включая Ленинград. А в разгоревшемся Смоленском сражении он оказался вынужденным топтаться на месте ровно столько времени, сколько отводилось на весь «Восточный поход». 30 июля — впервые с начала Второй мировой войны — Гитлер был вынужден отдать приказ войскам перейти к обороне на главном стратегическом направлении. Тем самым операция «Барбаросса» дала первую серьезную трещину.
Глава 5. Об участии Финляндии в составе фашистского блока в войне против Советского Союза 1941–1944 гг.
(Проблема и ее изучение в СССР и современной России)
Следует сразу же подчеркнуть, что советская историография, посвященная вступлению Финляндии в войну против СССР и участию в ней на стороне фашистского блока (1941–1944 гг.), не отличалась богатством и разнообразием. Отметим хотя бы отсутствие в Советском Союзе в 1940-е — 1980-е гг. специальных крупных исследований на данную тему. Причем вне обстоятельного внимания советских историков оказалась не только Финляндия, но и другие европейские союзники Третьего рейха, официально объявившие войну Советскому Союзу: Италия, Румыния, Словакия, Венгрия, Норвегия. Явно недостаточно освещено также в военно-исторической литературе СССР участие на Восточном фронте частей и соединений из Дании (1-й батальон «Норланд»), Испании («Голубая дивизия»), Хорватии (стрелковая бригада) и др. В числе причин такого положения можно указать на тот факт, что, начиная с 1941 г., главным объектом исследования в советской военно-исторической литературе о Второй мировой и Великой Отечественной войнах традиционно являлась Германия как ведущая сила фашистского блока и наиболее мощный противник антигитлеровской коалиции.
Видимо, не случайно и сама Великая Отечественная война Советского Союза (или советского народа) 1941–1945 гг. нередко именовалась в нашей литературе, да и в официальной пропаганде как Великая Отечественная война Советского Союза против фашистской Германии, а не против фашизма, или фашистского блока, что более точно и правильно.
Подобное «игнорирование» разгромленных Красной Армией различных формирований гитлеровских союзников, которые сражались на Восточном фронте с первых дней Великой Отечественной войны, наглядно проявилось и на таком примере: 9 мая 1945 г. в СССР для участников войны была учреждена медаль, названная «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Относительная бедность советской историографии по интересующей нас теме, очевидно, в какой-то мере связана и с бытовавшим в те годы мнением, что вряд ли целесообразно «ворошить» сравнительно недавнее прошлое советско-финляндских отношений (имея в виду «Зимнюю войну 1939–1940 гг.» и «Войну-продолжение», или «Дополнительную» войну 1941–1944), дабы не омрачать сложившиеся в послевоенный период добрососедские отношения между Советским Союзом и Финляндской Республикой, скрепленные договором 1948 г. о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Такой «довод», конечно, не выдерживает серьезной критики, но факт остается фактом — исследование предыстории и истории указанных двух войн тогда в СССР не относилось к числу приоритетных и актуальных. Хотя обе темы не являлись официально запрещенными в плане научного исследования тем не менее, их изучение не поощрялось. Помимо этого следует учесть и то обстоятельство, что многие соответствующие важные документы об этих войнах были в СССР необоснованно закрыты для ознакомления и использования.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу