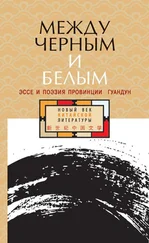Тот же генерал Блюментрит, перед войной начальник штаба 4-й армии, дислоцировавшейся в Польше, пишет, что до января 1941 года ни командующий армией фельдмаршал фон Клюге, ни его штаб не получали никаких указаний о подготовке войны с Россией. Лишь затем из штаба группы армий «Б» был получен некий приказ «с весьма осторожными формулировками, в которых намекалось на возможность кампании на Востоке, и было много туманных фраз и общих положений».
С другой стороны, полезно знать мнение англосакса С.Л.А. Маршалла, официального главного историка Европейского театра военных действий, который писал:
«Мнение Гитлера было решающим в Военном совете лишь потому, что большинство профессиональных военных поддерживало его и соглашалось с его решениями. Наиболее рискованные решения Гитлер принимал отнюдь не против воли большинства немецких военных руководителей – многие разделяли его взгляды до конца….»
Что ж, тут сложно с чем-то не согласиться. Но, так или иначе, Гитлер решил воевать с Россией. И именно в 1941 году. Тот же Хильгер пишет, что германский посол Шуленбург, вернувшись 30 апреля 1941 года из Берлина после встречи с Гитлером, уже в аэропорту шепотом сообщил: «Жребий брошен. Война с Россией – решенное дело!»
При этом Шуленбург и Хильгер понимали, что это, скорее всего, означает начало конца Рейха. Однако их шеф, глава германского МИДа (аусамта) Иоахим фон Риббентроп, тоже, пожалуй, это понимал. Если бы было иначе, то почему тогда во время беседы с советским послом Деканозовым, когда Риббентроп сообщал ему об объявлении войны, с шефа аусамта градом катился холодный пот, а в глазах стояли слезы? Это сообщал сам Деканозов, причем в обстановке неофициальной.
Да и редко цитируемое «записными» историками письмо Гитлера Муссолини от 21 июня 1941 года выдает огромные колебания фюрера относительно успешного исхода Восточного похода. Гитлер и сознавал, что испытывает судьбу, и не видел для себя иного выхода в ситуации, которая сложилась к лету 1941 года. Увы, можно лишь сожалеть, что Сталин не дал тогда Гитлеру четких доказательств возможности иного – устойчиво мирного, «седлового», – варианта. А ведь мог, мог в 1941 году реализоваться германо-советский вариант Тильзитского мира, когда Сталин и Гитлер, посмотрев друг другу в глаза, спросили бы друг друга: «А из-за чего мы собираемся воевать?»
Реально вышло иначе, и, возвращаясь в преддверии войны и к мемуарам Хильгера, напомню также, что в мае 1941 года Хильгер имел разговор на тему возможной войны с помощником военного атташе полковником Кребсом – знатоком потенциала России. Хильгер сказал Кребсу, только что возвратившемуся из Германии, что если в слухах о войне есть доля истины, то обязанность военных – объяснить Гитлеру, что война против СССР приведет к крушению Рейха. Кребс в ответ пожаловался, что фюрер больше не слушает офицеров Генерального штаба, которые отговаривали его от Французской кампании.
Последующие успехи Вермахта летом 1941 года привели многих сомневающихся в мажорное настроение, однако даже тогда – не всех. Ведь итоги объективного анализа – если это объективный анализ – не зависят от текущей конъюнктуры. Он потому и является объективным, что учитывает все факторы, в том числе и долговременные. И вот как раз всесторонний анализ не мог не убеждать компетентных экспертов в неизбежном конечном «русском» крахе Третьего рейха. При этом надо помнить, что основная масса полностью адекватных экспертов находилась в то время в СССР и в Германии. Сталин, безусловно, входил в число таких экспертов, и поэтому его уверенность в конечной победе, как и непреходящий скепсис того же Шуленбурга в отношении самых блестящих германских побед 1941 года, базировалась на точном знании и умении делать выводы, а не только на чувстве патриотизма Сталина и якобы недостатке такового у Шуленбурга.
Сталин был советским патриотом, Шуленбург любил Германию, но в стратегической оценке начавшегося советско-германского военного противостояния и в прогнозировании его конечных результатов Сталин и Шуленбург не расходились, потому что оба хорошо понимали ситуацию и знали возможности обеих держав.
В принципе Гитлер, как глава государства, их тоже мог и даже обязан был знать. Компетентный лидер, оценивая шансы своей страны на победу в войне с другой страной (или блоком стран), должен взвесить ряд моментов, но прежде всего характер социума и устойчивость социального строя противника; его экономический потенциал; его сырьевые, ресурсные возможности; географические и климатические особенности будущего театра военных действий.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
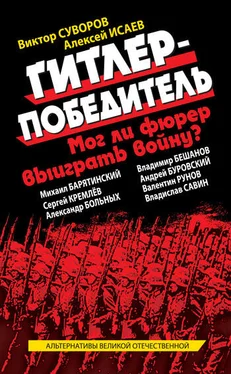






![Коллектив авторов Религия - Старинные рождественские рассказы русских писателей [сборник]](/books/388395/kollektiv-avtorov-religiya-starinnye-rozhdestvenskie-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей [litres]](/books/436984/kollektiv-avtorov-vek-diaspory-traektorii-zarubezh-thumb.webp)