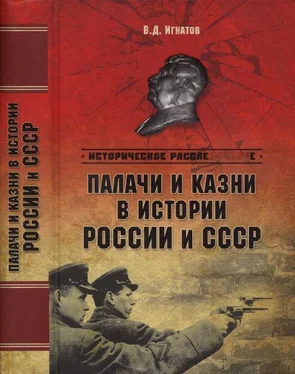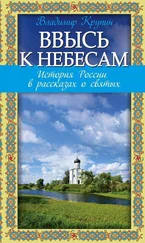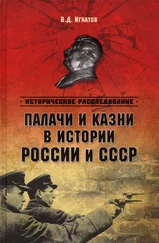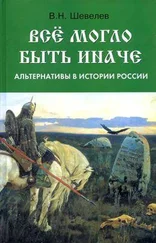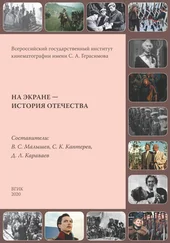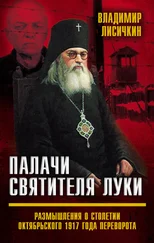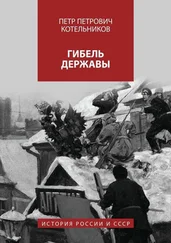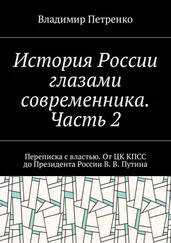В России до XIX века первым нормативным актом, регламентирующим деятельность палачей, был «боярский приговор 1681 г.», по которому в палачи назначались охотники (добровольцы) из посадских и вольных людей. При отсутствии охотников посадские обязаны были выбирать из «самых гулящих людей, чтобы во всяком городе без палача не было». Охотников стать палачами было мало, и во многие города палачей для исполнения казней приходилось командировать из столицы. Указом Сената от 10 июня 1742 г. было установлено нормативное количество палачей. В столице их должно быть три, в губернских городах — по два, а в уездных — по одному. Жалованье палачам полагалось давать из «государевой казны, из разбойного приказа» (Уложение 1649 г.). По указу 15 марта 1798 г. палачей, отставленных от должности по старости или болезни, приказано было распределять на жительство в 60-верстном расстоянии от губернского города для пропитания посильными трудами или отдавать на попечение родственников.
Хронический дефицит палачей приводил порой к курьезам. Так, в 1804 г. вся Малороссия осталась всего с одним штатным палачом. Генерал-губернатор Куракин направил в Санкт-Петербург представление с предложением официально разрешить набор в палачи преступников, осужденных за незначительные преступления. Указ Сената от 13 марта 1805 г. такое право ему предоставил и определил категории преступников, из среды которых можно было вербовать палачей. Однако после оглашения этого указа в тюрьмах не нашлось ни одного желающего стать палачом. В 1818 г. ситуация повторилась, на этот раз в Санкт-Петербурге, где с интервалом в несколько месяцев умерли оба столичных палача. Эта ситуация едва не вызвала паралич всей правовой системы государства, так как некому стало исполнять судебные приговоры в части наложения наказаний. Заключенных из столичной тюрьмы не могли отправлять по этапу до тех пор, пока они не получали определенных судом телесных наказаний и клеймения. Ситуация, когда столичная администрация оказалась не в силах отыскать палача, вызвала озабоченность на самом высоком уровне; Граф Милорадович предписал Губернскому правлению набирать палачей среди преступников. Для повышения «престижа профессии» император Николай I произвел существенную индексацию жалованья палачей. Для Москвы и Санкт-Петербурга величина «оплаты труда» вольного палача устанавливалась в размере 300—400 рублей в год, для губернских городов — 200—300 рублей, при том, что стоимость дойной коровы в то время не превышала пяти рублей. Кроме денежного оклада, палачам полагались деньги на казенную одежду (58 рублей) и питание, так называемые «кормовые». В случае выезда палача для экзекуции в другой город ему выплачивались командировочные.
Однако и повышение жалованья не вызвало притока желающих стать палачом, а ведь в России нищих и голодных хватало. Ни одного добровольца, пожелавшего записаться в палачи, ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге так и не нашлось. Из-за дефицита палачей Государственный совет в декабре 1833 г. постановил избирать «в сию должность из осужденных решениями уголовных палат в ссылку в Сибирь и к наказанию плетьми, освобождая таковых от присужденного им телесного наказания». Через три года Государственный совет уточнил, что «если бы никто из них не изъявил желания быть заплечным мастером, то предоставить губернским правлениям назначать из присужденных к отдаче в арестантские роты, по их на то согласию, или вольнонаемных. В случае же отсутствия желающих помещать в палачи насильно из преступников, названных в положении 1833 г.». Против воли нельзя было отдавать в палачи больше чем на три года.
Жалованья «мобилизованным» палачам не полагалось, но на их питание отпускалась двойная норма арестантских кормовых денег. Им выдавалась также арестантская одежда. Для властей оказались неожиданными и неприятными жалобы посетителей пересыльных тюрем, где исполнялись наложенные судом телесные наказания и куда приходила масса народу для прощания с родственниками перед их отбытием в Сибирь. Посетителей шокировал внешний вид палачей, встречающихся им в тюремных коридорах. Палач, возвращающийся с экзекуции, был похож на мясника со скотобойни: окровавленные руки, кровь, стекающая по фартуку, брызги крови на лице, в руках кнут и другие палаческие инструменты. Когда такой «мастер» в сопровождении конвоя неожиданно встречался в полутемном коридоре, впечатление от встречи было не самое лучшее. После таких жалоб петербургскому и московскому обер-полицмейстерам для палачей во всех тюрьмах были построены особые помещения в тюремном дворе, устроенные так, чтобы исключить возможность их случайной встречи с заключенными или посетителями тюрьмы. Жили палачи при тюрьмах в отдельном от арестантов помещении. Кандидаты в палачи учились мастерству у опытных «коллег». Орудием наказаний были кнут, плеть, палки, розги, кошки, линьки, батоги и клейма. Обучение порке кнутом требовало около года ежедневных занятий. Поэтому человек, записавшийся в палачи, сначала проходил довольно долгое и напряженное обучение в тюрьме на манекене и лишь после получения некоторых навыков начинал привлекаться к участию в настоящих экзекуциях. Какое-то время он действовал в качестве помощника палача, привыкая к обстановке застенка, крови и крикам истязуемых. Постепенно ему поручали выполнять несложные действия, например порку плетью, но до кнута допускали далеко не сразу. Для ежедневных учебных занятий существовали специальные кнуты. Их отличие от настоящих экзекуционных состояло в том, что для учебного кнута использовался мягкий (непросолённый) «язык». От человеческой крови настоящий просолённый «язык» быстро размягчался; после каждого удара его надлежало тщательно протирать рукой или тряпкой. Но обычно больше 10—15 ударов «язык» не выдерживал, и его меняли на сухой. Использованные «языки» шли на учебные кнуты.
Читать дальше