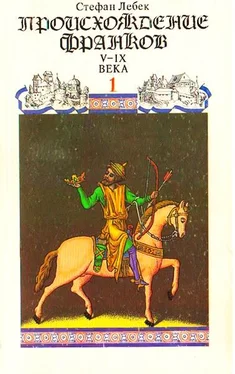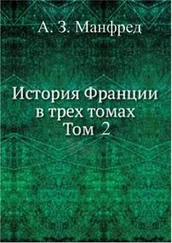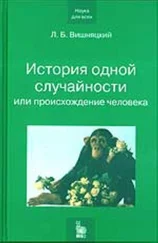Успех этого подлинно «всегалльского» культа может натолкнуть на мысль, что к концу VI века значительная часть населения Галлии, за исключением, может быть, самой отсталой части крестьянства на севере и на востоке — уже при христианстве, то есть прошла обряд крещения в соответствии с нормами того времени, которые допускали к причастию только взрослых, причем коллективно и во время одного из литургических празднеств года. Нельзя не вспомнить здесь пример Хлодвига и его дружины. Означало ли это, что все прежние верования, а точнее прежние обряды были отменены? Нет, конечно, поскольку многие проповеди, и, в частности, Сезера из Арля, а также синодальные и соборные уставы, принадлежащие, например, епископу Онеру из Осера (вторая половина VI века), показывают, что сохранялись не только отдельные формы поклонения старым римским божествам, но в еще большей мере языческие обряды. Возродилось кельтское язычество, стимулированное беспорядками последних веков и распространением германского язычества, которое было еще всемогущим на севере и востоке Галлии. Изобличались ритуальные переодевания во время январских календ, ночные омовения в период летнего солнцестояния, коллективные стенания по случаю лунного затмения, пантеизм, изготовление человекоподобных идолов, ношение амулетов и вся практика колдовства и гаданий. Тот факт, что соборы, созванные в Эстинне (Эно) и Суассоне в 743–744 годах, вновь вернулись к этим запрещениям в приложении, известном под названием «Indiculus superstitionum et paganiarum» [32] Основательно проанализированном недавно Аленом Диркенсом (36).
, достаточно ясно показывает народное сопротивление этой настоящей аккультурации, которой должно было или, во всяком случае, могло стать принятие христианства.
Эти нормативные тексты показывают также, как вырабатывался своеобразный синкретизм между старыми обрядами и новыми верованиями. Амулеты и талисманы стали христианизироваться; во всякого рода прорицаниях стали упоминаться святые; вошло в обычай причащение умирающих — любопытная замена старого обола для Харона. Стела, обнаруженная в Мистре (Турень), служит любопытной иллюстрацией к этому синкретизму: она несет на себе чисто христианскую эпитафию(«Здесь погребен во время сентябрьских календ светлой памяти юный Аигульф, пусть он помолится за своих родителей Этидия и Мелиту, как приличествует делать человеку, когда он предстает перед ликом Христа» [33] Цитирование Шарля Лелонга (99).
); но там же выгравировано изображение героизированного избранника, вырванного из когтей вечной смерти в образе льва, уносимого в небо мифическим конем. Таким образом, через похоронные ритуалы наиболее наглядно проявляется подлинное воздействие христианства.
Большинство из сохранившихся христианских эпитафий выражают реальное благочестие, если даже в них сохраняются стереотипы предыдущих столетий, а высеченные на стелах сцены далеко не так противоречивы, как изображение в Мистре: эпитафия Популонии, преданной земле в некрополе Сен-Ферреоля, недалеко от Гренобля, украшена двумя голубями с вазой между ними, символом источника жизни и очищения души через крещение.
Стоит ли удивляться, что подобные эпитафии обнаруживались чаще всего на периферийных кладбищах старых галло-римских поселений, например, в Лионе, Вьенне, Гренобле — то есть именно в тех местах, где над могилами мучеников и епископов были построены надмогильные базилики. Возведение таких базилик липший раз подтверждает погребальный характер их местонахождения, настолько велико было желание христиан быть похороненными поблизости от святых мест и литургических богослужений, как средства эффективного общения с Богом. Сильные мира сего в первую очередь епископы, а затем другие представители духовенства и высокопоставленные миряне добились привилегии захоронения в церквях: базилика Святого Мартина стала фамильным склепом епископов Тура, церковь Сен-Пьер — склепом епископов Вьенна. Во всех случаях галло-римляне стремились заменить прежние подношения пищи, укладываемые на могилах, простой вазой, наполненной святой водой, или камнем с выгравированными на нем образом или надписью, защищавшей могилу от злых сил; потом на могилах не появлялось уже никаких следов старых римских погребальных обычаев. Тем более, что старинный запрет, воспроизведенный в Кодексе Феодосия, требовавшем, чтобы «тела умерших вывозились и погребались вне города», стал нарушаться уже в первой половине VI века: кафедральные церкви, например, собор в Аррасе в 540 году, требовали права хоронить наиболее выдающихся епископов на своей территории. Как и периферийные базилики в недалеком прошлом, они начали привлекать паломников, то же происходило и с княжескими гробницами. Не случайно, очевидно, в погребальной часовне, построенной в атриуме кафедрального собора в Кёльне, были похоронены княгиня и мальчик, которых относят к непосредственному окружению Теодебера. И снова этот человек выступает больше римлянином, чем галло-римлянином.
Читать дальше