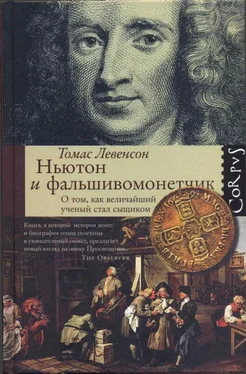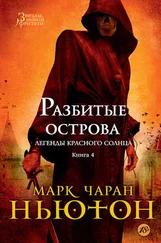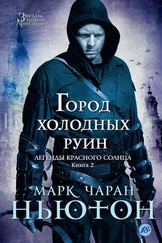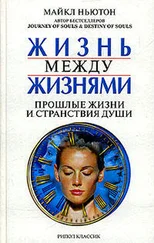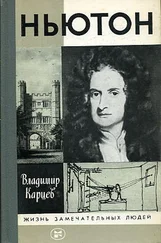Более того, у алхимиков была плохая репутация уже во времена Ньютона. Бен Джонсон высмеивал их как жадных шарлатанов в пьесе "Алхимик", впервые поставленной в 1610 году. Его герой Сатл полуграмотной болтовней на алхимическом жаргоне пытается заморочить голову легковерным и завоевать расположение миловидной девятнадцатилетней вдовы. Он открыто занимается подделкой: чтобы убедить одного сомневающегося клиента расстаться с последними деньгами, пока тот ожидает окончания алхимического процесса, который через пару недель должен принести ему горы золота, Сатл предлагает ему "помочь: все олово, какое / Вы купите, я растоплю немедля / И, подмешав тинктуру, начеканю / Для вас голландских долларов, не хуже [145]/ Тех, что казна чеканит в Нидерландах"( перевод П. Мелковой).
И все же Роберт Бойль, который не был ни преступником, ни безумцем, был страстно предан алхимии. Эту страсть разделял и Исаак Ньютон, который занимался алхимией более двадцати лет не менее сосредоточенно и усердно, чем математикой или физикой. В своих заметках он посвятил ей более миллиона слов: вопросы, копии ранних текстов, многостраничные описания результатов лабораторных исследований. Он, Бойль, Локк и множество других людей по всей Европе по-прежнему испытывали острую потребность смешивать, встряхивать, нагревать и охлаждать состав за составом в поисках чего-то более ценного для них, чем просто золото. Зачем они это делали?
Затем, что, по крайней мере для Ньютона, алхимия предлагала две награды, имеющие бесконечную ценность. Первой была обычная цель исследований Ньютона — познание сотворенного мира. Алхимия, какой ее видели Ньютон и Бойль, была эмпирической, экспериментальной наукой. Ее теория была оккультной (буквально — сокрытой), но если говорить о практике, то это была тяжелая, напряженная, практическая работа с материей — нагревание, растворение, измерение, взвешивание. Каждый алхимический эксперимент сообщал Ньютону некий факт об устройстве материального мира.
Эта цель была достойной сама по себе, но не она была основной в работе, которой Ньютон предавался с такой одержимостью. Ньютон понимал значение расширения пределов естественной философии как никто другой. Впервые столкнувшись с механистическим мировоззрением, он пришел к выводу: неверно утверждать, что "первая материя" происходит из какого-либо первоисточника, "кроме Бога". [146]Позже он вычеркнул последние два слова, но важно, что сначала он их написал.
Тем самым Ньютон признал ключевой факт, который лежит в основе современной науки с ее материальными объяснениями физических событий. В мире, всецело состоящем из материи в движении, традиционная роль Бога неизбежно уменьшается. Творец механической Вселенной мог дать событиям толчок, но после этого первичного импульса космос мог развиваться во времени самостоятельно.
Не только Ньютон чувствовал холод мира, в котором оставалось все меньше божественного. Любой внимательный наблюдатель осознавал значение нового подхода. Одному из главных его поборников Рене Декарту через год после рождения Ньютона пришлось защищаться от обвинений в атеизме. В 1643 году Мартин Шук, профессор философии в Университете Гронингена в Нидерландах, резко осудил Декарта как "повелителя критян" (из античного анекдота о человеке с острова Крит, который уверял своих слушателей, что он говорит правду, когда утверждает, что все критяне лжецы), "лгущего двуногого" и худшего из людей, поскольку "он вводит яд атеизма тонко и тайно в тех, кто из-за слабости своего ума никогда не замечает змею, что прячется [147]в траве".
Для Шука грех заключался в меньшей степени в физике Декарта и в большей — в его преклонении перед властью человеческого разума. Особые подозрения у него вызывала неубедительность доказательств существования Бога, приведенных французом. (Жалуясь французскому послу в Гааге на парадоксальную природу этого обвинения, Декарт писал: "Только потому, что я доказал существование Бога, [Шук] попытался убедить людей, что я тайно распространяю атеизм". [148]) Сам Декарт избежал серьезных последствий. Но привкус атеизма преследовал новую науку. Когда Ньютон впервые познакомился с работами Декарта, выводы, которые можно было сделать из физики, фактически отменявшей необходимость божественного действия, были очевидны даже юноше с окраин просвещенного мира.
Ньютон в конечном счете отверг физику Декарта задолго до того, как нашел способ, удовлетворяющий по крайней мере его самого, вернуть Бога в центр действия в пространстве и времени — возможно, наиболее ярко это отражено в его аргументации в пользу того, почему Солнце и планеты должны испытывать взаимное гравитационное притяжение.
Читать дальше