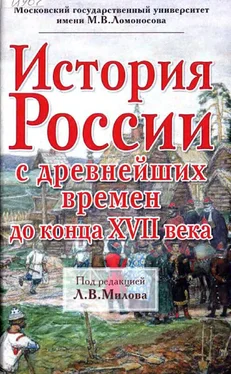В XVII столетии меняется облик Москвы. К 1635–1637 гг. относится строительство царского Теремного дворца в Кремле артелью мастеров, среди которых были Антип Константинов, Важен Огурцов, Трефил Шарутинов и Илларион Ушаков. Зодчие воздвигли великолепное многоярусное здание, богато украшенное резными наличниками, золоченой кровлей. Под стать внешнему виду было и внутреннее убранство Теремного дворца. «Нужно представить себе в этих палатах русских бояр того времени в их долгополых ферезях из узорных тканей, чтобы понять, насколько архитектура гармонировала с их обликом», — писал известный искусствовед М. В. Алпатов. Теремной дворец — пример гражданской постройки, которая использовалась и как жилое помещение, и как представительное государственное здание.
Стремление к украшению сказалось и на развитии крепостной архитектуры Московского Кремля. В 1624–1625 гг. русский зодчий Важен Огурцов и англичанин Христофор Галловей надстроили верх Спасской башни — главной въездной башни Кремля. Надстройка была украшена белокаменными узорами, в нишах поставлены «болваны» (фигурки зверей), установлены часы-куранты. Во второй половине века появились шатры и на других башнях Кремля, что соответствовало общей тенденции декоративности в русском зодчестве.
Крепостная архитектура стен и башен монастырей, теряющих свое оборонительное значение, становилась более нарядной, не такой суровой, как раньше (Новодевичий, Донской, Данилов, Троице-Сергиев, Спасо-Евфимьев, Иосифо-Волоцкий и другие монастыри). Церковь, стремившаяся не выпустить изпод своего контроля зодчество, пыталась в 40—50-е гг. вернуться к строгому монументализму. Примером тому могут служить Патриаршие палаты Московского Кремля (1643–1655) с Крестовым залом, сводчатой палатой без столпов, одной из любимых конструкций зодчих XVI в. Палаты были построены мастером Аверкием Мокеевым, архитектором патриарха Никона, руководившим строительством патриарших Валдайского Иверского и Воскресенского Ново-Иерусалимского монастырей в 50-е гг. По замыслу грандиозного проекта патриарха Никона в монастыре должны были повториться главные иерусалимские христианские святыни, с тем чтобы теория «Москва — Новый Иерусалим» получила не только идейное, но и материальное воплощение. Воскресенский храм строился по образцу Иерусалимского храма «над Гробом Господним». Строительство затянулось, заканчивал его в конце 80-х — начале 90-х гг. другой зодчий — Яков Бухвостов. Зодчие, пользуясь чертежами и описаниями; воспроизвели основную конструкцию и элементы иерусалимского храма, но придали ей типично русские черты, широко используя многоцветные поливные изразцы в обработке фасадов и интерьера. Создателями изразцов были белорусские мастера Петр Заборский и Степан Иванов, имевший прозвище Полубес.
Вслед за патриархом большими строительными проектами увлеклись и некоторые из церковных иерархов. В 60—80-е гг. при ростовском митрополите Ионе Сысоевиче развернулось бурное строительство митрополичьего двора (Ростовского кремля). На берегу озера Неро вырос сказочный «град Китеж», «вертоград Божий» на земле. Предполагают, что зодчим, воплотившим в камне замысел митрополита, был крестьянин Петр Досаев. Ансамбль Ростовского кремля поражает удивительной органичностью, цельностью архитектуры и фресковой росписи, покрывающей стены местных храмов. Архитекторы и живописцы достигли совершенства, познав чувство меры, выраженное в сочетании строгости и простоты с нарядностью и красочностью.
В XVII в. бурно развивается строительство в таких городах, как Ярославль, Кострома, Вологда, Рязань. Размах, красота, оригинальность, свой «творческий стиль» в архитектуре и живописи позволяют говорить о ярославской школе. Церковь Ильи Пророка (1647–1650), церковь Иоанна Златоуста (1649–1654) в Коровницкой слободе, церковь Николы Мокрого (1665–1672), церковь Иоанна Предтечи в Толчковской слободе (1671–1687), церковь Богоявления (1684–1693) — таков далеко не полный перечень «вершинных», лучших памятников, для которых характерен особый ярославский колорит, неотделимый от редкостных по рисунку и цвету изразцов.
В Москве и в других городах строят для себя каменные дома богатые бояре, дворяне и купцы. В каменной гражданской застройке проявились отказ заказчиков от былой простоты и строгости и явно выраженное стремление к нарядности (резьба наличников, шатровые крыльца, крытые галереи-переходы и др.). Палаты думного дьяка Аверкия Кириллова на Берсеневке (1656–1657), палаты боярина Волкова в Большом Харитоньевском переулке (конец XVII в.), дом купца Коробова (конец XVII в.) в Калуге сильно отличаются от палат псковских купцов Поганкиных, построенных в старых традициях (мощные стены, маленькие «глазки» окон).
Читать дальше