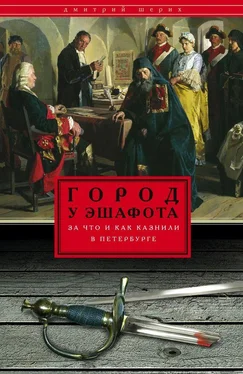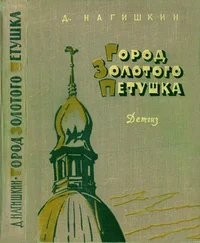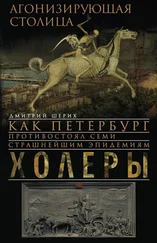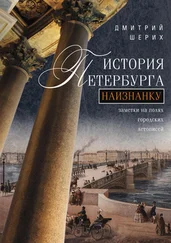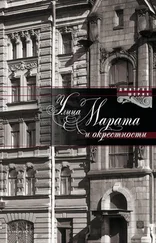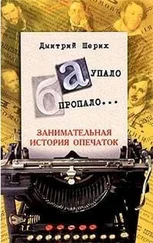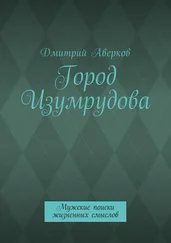Евгений Михайлович Феоктистов, в ту пору редактор «Журнала Министерства народного просвещения», а позже начальник Главного управления по делам печати, присутствовал на процессе над Дубровиным и особо отметил уникальное по краткости выступление прокурора: «Ряд злодейств и покушений, повторяющихся в настоящее время и угрожающих существующему порядку вещей, заставляет меня просить суд, руководствуясь изданными законами (такими-то) и ввиду очевидно доказанного поступка Дубровина, о котором мне излишне будет говорить перед судом, применить к нему за явное сопротивление законам, установленным властями, и очевидное участие в социально-революционном кружке, в котором он играл не последнюю роль, высшую меру наказания, то есть смертную казнь; выбор же казни предоставляю усмотрению суда».
Итак, повешение. С момента памятной многим петербуржцам казни Дмитрия Каракозова минуло двенадцать с половиной лет, а потому ни палачей, ни должного оборудования в столице не имелось. Как и обычно, принялись искать кадры за пределами столицы, но в этот раз поиски палача имели далеко идущие результаты. Историк Николай Троицкий, подробно исследовавший борьбу царской власти с революционным движением, писал: «Министр внутренних дел Л.С. Маков телеграфно запросил палачей из Москвы и Варшавы. Приехали и московский, и варшавский палачи. Первый из них, Иван Фролов, душегуб-виртуоз из уголовников, именно казнью Дубровина начал зловещую карьеру самого «знаменитого», если не по количеству, то по значению казненных им жертв, палача в России. За 1879–1882 гг. во исполнение приговоров царского суда он повесил 26 революционеров, среди которых были Андрей Желябов, Софья Перовская, Николай Кибальчич, Александр Квятковский, Валериан Осинский, Дмитрий Лизогуб. Вешать Дубровина поручено было Фролову и его варшавскому собрату — вдвоем. Больше того, памятуя о силе и дерзости Дубровина, власти назначили «в помощь заплечным мастерам на случай борьбы преступника» еще четырех уголовников из Литовского замка в качестве «подручных палачей». Итого против одного осужденного выставили шесть палачей. Такого «внимания» не удостаивался ни один из русских революционеров — ни до, ни после Дубровина».
Впрочем, сама казнь, состоявшаяся 20 апреля 1879 года на валу Иоанновского равелина Петропавловской крепости, в самом центре Петербурга, прошла без эксцессов. Евгений Феоктистов, описывая это событие, был лаконичен: «От одного из адъютантов Гурко, присутствовавших при его казни, я слышал, что он умер с невозмутимым спокойствием». О том же говорят и строчки из дневника Петра Александровича Валуева, в ту пору председателя комитета министров России: «Сегодня исполнен смертный приговор над Дубровиным. Маков сообщил, что «он умер замечательно стойко, но без буйства» (оказанного им на суде)… Стойкость — недобрый признак».
Присутствовали на повешении не только официальные лица; известно, что в Петербург была вызвана рота 86-го Вильманстрандского полка, которой командовал подпоручик. Журнал «Земля и воля», сообщая о последних минутах Дубровина, не обошел вниманием этот факт: «Проходя мимо роты, которою он командовал и которая была приведена присутствовать при его казни, Дубровин крикнул ей: «Знайте, ребята, что я за вас умираю!» — и рота машинально отдала ему честь ружьем. Оттолкнув священника и палача, он взошел на эшафот и сам надел на себя петлю».
Наконец, еще один свидетель — Неонила Михайловна Салова, участница революционных организаций: «Публичная казнь Дубровина происходила на крепостной стене. Мы, тогдашняя молодежь, считавшие себя обреченными, находили нужным с целью испытать себя присутствовать при этой казни».
Замечательный знаток жизни и творчества Достоевского, писатель Игорь Волгин, утверждает в одной из своих книг, что до 1880 года «Петербург видел только две публичные казни (из состоявшихся четырех): 3 сентября 1866 года повесили Каракозова; 28 мая 1879-го — Соловьева (декабристов и Дубровина казнили в крепости — тайно)».
Ошибается: публичными, пусть и в разной степени, были все эти казни.
Но вот уже и новая экзекуция, теперь уже на Смоленском поле — и при куда большем стечении публики. Казнили того самого народовольца Соловьева, который стрелял в императора Александра II. Из тогдашних газет известно, что до дня экзекуции Александр Константинович содержался в Петропавловской крепости, откуда на позорной колеснице, под конвоем лейб-гвардии казачьего Атаманского и Гренадерского полков, его отправили на Васильевский остров: через Тучков мост, по 1-й линии на Большой проспект, и уже вдоль проспекта — прямиком на Смоленское поле. Одет приговоренный был в черное платье, «в которое обыкновенно одевали арестантов, принадлежащих к привилегированному сословию, именно: черный сюртук из толстого солдатского сукна, черная фуражка без козырька и белые панталоны, вдетые в голенища сапог». На груди приговоренного, опять же по традиции, висела черная доска с надписью «Государственный преступник».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу